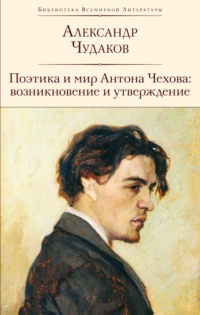
Поэтика и мир Антона Чехова: возникновение и утверждение
Замечательно, что все эти элементы даны нерасчлененно в одном абзаце, в одном синтаксическом целом. Тем самым устанавливается их смысловая равноценность, неиерархичность – важнейшая черта чеховского изображенного мира (см. гл. IV–V).
8
Пространственную организацию повествования 1888–1894 годов также удобнее рассмотреть на материале одного произведения – например, рассказа «Соседи» («Книжки „Недели“», 1892, № 7).
В рассказах первого периода с субъективным повествователем пейзаж давался с некоей всеобъемлющей точки зрения. В объективном повествовании второго периода природный мир описывается исключительно с точки зрения главного героя.
«Вот большой графский пруд; от тучи он посинел и нахмурился; повеяло от него сыростью и тиной. <…> Когда Петр Михайлович ехал через рощу, гремел гром и деревья шумели и гнулись от ветра. <…> От рощи до усадьбы Власича оставалось еще проехать лугом не более версты. Тут по обе стороны дороги стояли старые березы. <…> Вон показалась изгородь Власича с желтою акацией…»
«В ста шагах на правом берегу пруда стояло неподвижно что-то темное: человек это или высокий пень?..»
«<…> думал он, подъезжая к темной фигуре: это был старый гниющий столб, уцелевший от какой-то постройки».
«Оптическая» позиция описывающего полностью совпадает с взглядом героя, движущегося в пространстве. Когда герой не видит предмет ясно, то и для повествователя это «что-то темное»; увидел герой – «увидел» и повествователь.
Но в «Соседях» есть случай, когда описывается то, что со своего места не мог видеть герой.
«Было душно. Низко над землей стояли тучи комаров, и в пустырях жалобно плакали чибисы. Все предвещало дождь, но не было ни одного облачка. Петр Михайлович переехал свою межу и поскакал по ровному, гладкому полю. Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик, каждую ямку. То, что далеко впереди теперь, в сумерках, представлялось темным утесом, была красная церковь; он мог вообразить ее себе всю до мелочей, даже штукатурку на воротах и телят, которые всегда паслись в ограде».
Детали, невидимые с точки пространства, в которой находится герой сейчас, изображаются с позиции, на которой он находился в прошлом. Они представлены как воспоминание этого же героя, то есть опять-таки с его точки зрения.
Повествователь первого периода в таких мотивировках не нуждался.
Таким же образом изображается в рассказе и интерьер.
«Он встал и пошел за Власичем в переднюю, а оттуда в залу <…> На фортепьяне горела одна свеча. Из залы молча прошли в столовую. Тут тоже просторно и неуютно; посреди комнаты круглый стол из двух половинок на шести толстых ногах и только одна свеча. Часы в большом красном футляре, похожем на киот, показывали половину третьего».
Внутренний мир главного героя изображается повествователем непосредственно, при помощи несобственно-прямой речи; внутренний мир прочих персонажей – опосредованно, через внешние проявления, доступные восприятию главного героя.
«Он улыбался и глядел весело; очевидно, не знал еще, что Зина ушла к Власичу; быть может, ему уже сообщили об этом, но он не верил».
«Власич говорил тихим, глухим басом, все в одну ноту, будто гудел; он, видимо, волновался».
Подобный принцип описания чувств и переживаний неглавных героев произведения выдержан в «Соседях» очень строго.
Итак, во второй период в обеих сферах повествовательной системы осуществлен единый конструктивный принцип.
1888–1894 годы – время абсолютного господства объективного повествования в прозе Чехова.
Способ изображения через восприятие героя не был открыт Чеховым. Как показали исследования В. В. Виноградова, этот метод довольно широко использовался и в пушкинской, и послепушкинской прозе – Гоголем, Достоевским, Толстым. И все-таки такой тип повествования в сознании читателей и исследователей теснее всего связан именно с Чеховым.
И этому есть основания – ибо никто из названных писателей не применил этот способ в «несказовой» прозе столь последовательно, подчинив повествование аспекту героя так строго, изгнав из него любые другие возможные точки зрения и голоса, никто не сделал аспект героя главным конструктивным принципом повествовательной системы. Этот тип повествования с полным правом может считаться чеховским.
Глава III
Повествование в 1895–1904 годах
В манере, доселе неизвестной…
Д. Вазари1
Основу повествования 1888–1894 годов составлял голос героя, пронизывающий это повествование сквозь.
Но к середине 90-х годов разлив речевой стихии героев стал входить в берега, мелеть. На фоне все более разрастающейся речи повествователя голоса героев проступают теперь лишь отдельными пятнами.
Теперь уже оценка и ориентация героя совсем не обязательно выражаются в его слове. Становится важным другое – выявить лишь самую общую позицию героя; и, передавая ее, повествователь теперь отдает предпочтение формам своей собственной речи.
Насколько велика в этом отношении разница между повествованием второго и третьего периодов, удобнее всего показать путем сопоставления двух однотипных произведений, например рассказов «Каштанка» (1887) и «Белолобый» (1895). Оба эти рассказа – о животных, в обоих мир представлен в восприятии таких своеобразных «героев».
В рассказе 1887 года это делается следующим образом: «Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах и теперь все тонкие запахи мешались с острою каучуковою вонью» («Новое время», 1887, № 4248, 25 декабря).
«Прошло немного времени, сколько его требуется на то, чтобы обглодать хорошую кость».
«И по его щекам поползли вниз блестящие капельки, какие бывают на окнах во время дождя» (отд. издание – СПб., 1892).
«Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи: лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то одна толстая громадная рожа с хвостом вместо носа и с двумя длинными обглоданными костями, торчавшими изо рта» («Новое время», № 4248).
Изображаемая действительность остранена; предметы не получают тех имен, которые мог бы дать им «от себя» повествователь, – они «названы» заново, описательно. Эти перифразы ощущаются как чужая для него речь. Необычно, таким образом, не только восприятие, необычен, «ненормален» для повествователя сам язык[48]. (Ср. в рассказе «Гриша» 1886 года – описание собак: «большие кошки с длинными мордами, с высунутыми языками и задранными вверх хвостами».)
В рассказе «Белолобый» (1895), напротив, изображенная через «восприятие» волчицы обстановка дается исключительно в лексике повествователя.
«По слабости здоровья, она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одною падалью; свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.
В верстах четырех от ее логовища, у почтовой дороги, стояло зимовье. Тут жил сторож Игнат, старик лет семидесяти <…> Должно быть, раньше он служил в механиках <…> Иногда он пел и при этом сильно шатался и часто падал (волчиха думала, что это от ветра) и кричал: „Сошел с рельсов!“» («Детское чтение», 1895, № 11).
В повествование «Каштанки», как это обычно для второго периода, свободно включаются формы несобственно-прямой речи. «Она виляла хвостом и решала вопрос: где лучше – у незнакомца или у столяра?» «Когда думаешь об еде, то на душе становится легче, и Тетка стала думать о том, как она сегодня украла у Федора Тимофеича куриную лапку и спрятала ее в гостиной между шкапом и стеной <…>. Не мешало бы теперь пойти и посмотреть, цела эта лапка или нет? Очень может быть, что хозяин нашел ее и скушал» (отд. издание – СПб., 1892).
В рассказе же 1895 года, за одним исключением, находим только косвенную речь. «Волчиха помнила, что летом и осенью около зимовья паслись баран и две ярки, и когда она не так давно пробегала мимо, то ей послышалось, будто в хлеву блеяли. И теперь, подходя к зимовью, она соображала, что уже март и, судя по времени, в хлеву должны быть ягнята непременно. Ее мучил голод, она думала о том, с какою жадностью она будет есть ягненка, и от таких мыслей зубы у нее щелкали и глаза светились в потемках, как два огонька» («Белолобый»).
В «Каштанке» изображение тесно привязано к «героине» – изображается только то, что могла видеть и слышать она. Нет ни одной сцены, где не присутствовала бы Каштанка.
В «Белолобом» единство аспекта не выдержано. Вся последняя сцена дается уже «помимо» волчихи.
«…волчиха была уже далеко от зимовья.
– Фюйть! – засвистел Игнат. <…>
Немного погодя он вернулся в избу.
– Что там? – спросил хриплым голосом странник, ночевавший у него в эту ночь…» и т. д. Дальше мы увидим, насколько эта черта вообще свойственна повествованию позднего Чехова.
В третий период (1895–1904) голос рассказчика занимает в повествовании главенствующее место.
Повествование этого времени не стремится включить речь героя в ее «целом» виде, но в переделанном, переоформленном. Несобственно-прямая речь сильно теснится косвенной.
Если несобственно-прямая речь сохраняет эмоциональные и стилистические формы речи героя, то смысл косвенной речи заключается прежде всего «в аналитической передаче чужой речи. Одновременный с передачей и неотделимый от нее анализ чужого высказывания есть обязательный признак всякой модификации косвенной речи. Различными могут быть лишь степени и направления анализа. Аналитическая тенденция косвенной речи проявляется прежде всего в том, что все эмоционально-аффективные элементы речи, поскольку они выражаются не в содержании, а в формах высказывания, не переходят в этом же виде в косвенную речь. Они переводятся из формы речи в ее содержание и лишь в таком виде вводятся в косвенную конструкцию или же переносятся даже в главное предложение, как комментирующее развитие вводящего речь глагола»[49].
Но сплошь и рядом повествование 1895–1904 годов еще более удаляется от речи героя – оно уходит и от косвенной речи, осуществляя лишь общую смысловую передачу точки зрения персонажей, совершенно безотносительно к их индивидуальному слову.
«Сознание этого порядка и его важности доставляло Якову Иванычу во время молитвы большое удовольствие. Когда ему по необходимости приходилось нарушать этот порядок, например уезжать в город за товаром или в банк, то его мучила совесть и он чувствовал себя несчастным» («Убийство». – «Русская мысль», 1895, № 11).
«Волостной старшина и волостной писарь, служившие вместе уже четырнадцать лет и за все это время не подписавшие ни одной бумаги, не отпустившие из волостного правления ни одного человека без того, чтобы не обмануть и не обидеть, сидели теперь рядом, оба толстые, сытые, и казалось, что они уже до такой степени пропитались неправдой, что даже кожа на лице у них была какая-то особенная, мошенническая» («В овраге». – «Жизнь», 1900, № 1).
Развернутое сравнение в последнем примере подчеркивает аспект повествователя.
«Ей казалось, что страх к этому человеку она носит в своей душе уже давно. Еще в детстве самой внушительной и страшной силой, надвигающейся как туча или локомотив, готовый задавить, ей всегда представлялся директор гимназии; другой такою же силой, о которой в семье всегда говорили и которой почему-то боялись, был его сиятельство; и был еще десяток сил помельче, и между ними учителя гимназии с бритыми усами, строгие, неумолимые, и, наконец, Модест Алексеич, человек с правилами, который даже лицом походил на директора» («Анна на шее». – «Русские ведомости», 1895, 22 октября, № 292).
Этот монолог чрезвычайно далек и от прямой речи героини рассказа, и от прямой речи вообще. (Поэтому так искусственно, ненатурально звучат эти слова, произносимые героиней вслух в фильме «Анна на шее» – сценарий и постановка И. Анненского, Ленфильм, 1954 г.)
Повествование третьего периода бежит сло́ва героя. Это, разумеется, не абсолютный закон для каждого отрезка текста 1895–1904 годов. Речь идет лишь о тяготении к некоему пределу, приблизиться к которому в полной мере никогда не удается. Но стремление к нему явно.
2
Сходные процессы происходят в рассказах от 1-го лица. Здесь проблема соотношения речи повествователя и героя приобретает несколько другой характер.
В качестве повествователя тут выступает герой рассказа. Он может быть слушателем или собеседником, участником событий или сторонним наблюдателем – все равно во всех этих случаях он является одним из действующих лиц рассказа (главным или второстепенным). Он может выступать в различных речевых обличьях.
В зависимости от характера речи рассказчика среди произведений от 1-го лица можно выделить три разновидности.
1. Рассказ с установкой на чужую речь.
Рассказчиком здесь выступает лицо, обладающее яркой социально-психологической и языковой определенностью. Его речь – чаще всего за пределами литературного языка. Примером рассказа с установкой на чужую речь может служить «Происшествие» (1887).
«Вот в этом лесочке, что за балкой, случилась, сударь, история… Мой покойный батенька, царство им небесное, ехали к барину. <…> Везли они к барину семьсот целковых денег от обчества за полгода. Человек они были богобоязненный, писание знали, достаток имели и на чужое добро не льстились, а потому обчество завсегда им доверяло. <…> Чтоб обсчитать кого, обидеть или, скажем, обжулить – храни бог: совесть имели и бога боялись <…> Были они выделяющие из ряда обнакновенного, но, не в обиду будь им сказано, сидела в них малодушная фантазия. Любили они урезать, то есть муху зашибить» («Петербургская газета», 1887, 4 мая, № 120).
2. Рассказ с установкой на устную речь.
Сюда относятся произведения, язык которых в целом не выходит за пределы литературного, но имеет особенности, свойственные устно-разговорной его разновидности: свободный синтаксис (инверсии, неожиданные присоединения, широкое использование обращений, вставочных и вводных конструкций, свободная компоновка синтаксических целых), элементы просторечной лексики и фразеологии и т. п. Немаловажную роль играют и некоторые более общие художественные моменты: отсутствие усложненности, «литературности» в описаниях, характеристиках, построении рассказа.
«А вот я был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симптомы первой ненависти. Первой, господа, потому что то было нечто как раз противоположное первой любви. Впрочем, то, что я сейчас расскажу, происходило, когда я еще ничего не смыслил ни в любви, ни в ненависти. <…> Ну-с, прошу внимания. <…> Очевидно, ненависть так же не забывается, как и любовь… Чу! Я слышу, горланит петух. Спокойной ночи! Милорд, на место!» («Зиночка». – «Петербургская газета», 1887, 10 августа, № 217).
Речь рассказчика в таких произведениях не ощущается как чужая. Это особенно хорошо видно в тех случаях, когда мы имеем «рассказ в рассказе». Чувствуется очевидная близость стилей вводящего рассказчика и второго рассказчика, излагающего главную историю («Огни», «Рассказ старшего садовника»).
3. Рассказ, где нет установки ни на чужую, ни на устную речь.
В произведениях этого типа рассказчик является чистой условностью. Изложение ведется целиком в формах литературного языка. Рассказчик совершенно открыто выступает в роли писателя. Его речь сближается с речью повествователя, как она представлена в рассказах в 3-м лице. Примерами рассказов третьего типа может служить «Жена» (1891), «Рассказ неизвестного человека» (1892), «Моя жизнь» (1896).
В 1888–1894 годах большое распространение получают рассказы третьего типа – без установки на чужое слово и устную речь («Красавицы», «Жена», «Страх»; обрамляющие рассказы в «Огнях» и «Рассказе старшего садовника»). Но еще встречаются рассказы с установкой на устное слово (вторые рассказчики в «Огнях» и «Рассказе старшего садовника») и даже на чужую речь (рассказчик в «Бабах»).
В 1895–1904 годах исчезают произведения первого и второго типов.
Остаются только рассказы без установки на чужое слово и устную речь, по манере очень близкие к рассказам в 3-м лице этого периода: «Ариадна» (1895), «Моя жизнь» (1896), «Дом с мезонином» (1896), «О любви» (1898).
Особой оговорки требуют «Человек в футляре» и «Крыжовник». Оба они являются «рассказами в рассказе». Сначала общую экспозицию дает повествователь, а потом вступает основной рассказчик. Его изложению свойственны некоторые внешние черты сказа: «Вот вам сцена», «Теперь слушайте, что дальше». Но этим и исчерпывается сказовость вещи[50]. Во всем остальном это совершенно рассказы 3-го типа. Об этом говорит и «литературность» характеристик и описаний, чуждых «настоящему» устному изложению[51], и стиль, близкий, особенно по своей синтаксической организации, к письменно-литературному, публицистическому.
«Все тихо, спокойно, и протестует одна только немая статистика: столько-то с ума сошло, столько-то ведер выпито, столько-то детей погибло от недоедания… <…> Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что, как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда – болезнь, бедность, потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других» («Крыжовник». – «Русская мысль», 1898, № 8).
О близости к рассказам в 3-м лице говорит и пространственно-психологическая позиция рассказчика, несвойственная произведениям второго типа. Рассказчик изображает не только то, что видел непосредственно он сам, но и точно воспроизводит разговоры, при которых он не присутствовал, мысли героев, которые он не мог знать.
Итак, в рассказах от 1-го лица осуществляется переход от речи рассказчика – реального лица с его индивидуальными особенностями – к языку рассказчика условного. Очевидно, что это явление того же порядка, что и замена в рассказах в 3-м лице голосов героев пересказом повествователя. Это показатели общего процесса – снижения внимания к открытому, явному чужому слову.
3
Новые художественные завоевания не предполагали отказа от старых. Включение голоса героя в повествовательную ткань сохранилось у Чехова и в третьем периоде как один из основных художественных приемов. Правда, он существенно видоизменился.
Во второй период в повествовании рассказов, сюжет которых объединялся вокруг центрального героя, был один голос – голос этого героя. Только в больших повестях, где сюжетное изображение было «поделено» между несколькими равноправными персонажами («Дуэль», отчасти «Палата № 6» и «Три года»), в повествование входили голоса нескольких персонажей.
В третий период повествование рассказов с господством в сюжете одного героя свободно впитывает голоса других лиц, в том числе второстепенных и эпизодических.
Так, в рассказе «Ионыч» (1898) в речь повествователя вплетены такие различные голоса:
«Местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства».
«…трудно было понять, как это крепчал мороз и как заходившее солнце освещало своими холодными лучами снежную равнину и путника, одиноко шедшего по дороге»; «Вера Иосифовна читала о том, как молодая красивая графиня устраивала у себя в деревне школы, больницы, библиотеки и как она полюбила странствующего художника…»
«Вера Иосифовна написала ему трогательное письмо, в котором просила его приехать и облегчить ее страдания».
«Вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку».
«Иван Петрович <…> прочел смешное письмо немца-управляющего о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость» («Ежемесячные литературные приложения к журналу „Нива“», 1898, № 9).
Еще большим, чем во второй период, разнообразием голосов отличается и повествование произведений, сюжет которых не объединен одним героем, – «Убийство», «Мужики», «В овраге».
Изменилось и само «качество» голосов героев. Это видно уже в некоторых приведенных выше примерах из «Ионыча». Включение лексики персонажа теперь сплошь и рядом не смещает изложение в другую субъектную плоскость, не превращает ею в несобственно-прямую речь. При всех условиях изложение остается целиком в сфере повествователя.
«Тереховы вообще всегда отличались религиозностью. <…> они были склонны к мечтаниям и к колебаниям в вере, и почти каждое поколение веровало как-нибудь особенно. <…> сын в старости не ел мяса и наложил на себя подвиг молчания, считая грехом всякий разговор. <…> На него глядя, совратилась и сестра Аглая» («Убийство»).
«Но вот знакомые дамы засуетились и стали искать для Ани хорошего человека» («Анна на шее». – «Русские ведомости», 1895, 22 октября, № 292).
«Публику она так же, как и он, презирала за равнодушие к искусству и за невежество…» («Душечка». – «Семья», 1899, № 1).
«Ему нашли за тридцать верст от Уклеева девушку Варвару Николаевну из хорошего семейства, уже пожилую, но красивую, видную» («В овраге»).
«Когда-то еще в молодости один купец, у которого она мыла полы, рассердившись, затопал на нее ногами, она сильно испугалась, обомлела, и на всю жизнь у нее в душе остался страх» («В овраге»).
Дело здесь не только в том, что повествование отрывается от стиля одного героя и на него ложатся отсветы стиля персонажей многих. Главное в том, что это не прямое цитирование, как ранее, а полная ассимиляция чужих понятий и слов.
Слово подбирается не по признаку индивидуальной принадлежности данному персонажу, а по принципу тематического и общестилистического соответствия изображаемой среде. Такая фразеология образует лишь тонкий стилистический налет, некий едва ощутимый колорит иного стиля.
Сходные процессы происходили и в сфере синтаксиса. Прежде план героя здесь создавался непосредственным использованием его экспрессии: включением вопросительных, восклицательных предложений – превращением текста в несобственно-прямую речь.
Теперь, в 1895–1904 годах, кроме прежних способов применяется новый – особым образом организуется речь повествователя.
«Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку <…>. Оба молчали. <…> Но вот она встала и быстро пошла к выходу; он – за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то спускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и все со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков» («Дама с собачкой». – «Русская мысль», 1899, № 12).
Описание дано полностью в формах языка повествователя и нигде не переходит в несобственно-прямую речь. Но на это объективное воспроизведение событий как бы накладывается отпечаток эмоционального состояния героев. Он заключается в прерывистости синтаксиса, в особом, «задыхающемся» ритме фраз, сообщающем авторскому повествованию настроение героев. Это более тонкий стилистический прием, чем непосредственное включение в повествование экспрессивных форм синтаксиса персонажей. Еще несколько примеров из рассказов конца 1890-х – начала 1900-х годов:
«Она танцовала с увлечением и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком» («Анна на шее»).
«Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку» («Дама с собачкой»).
«… сил не хватало, не было соображения, как идти, месяц блестел то спереди, то справа, и кричала все та же кукушка <…> Липа шла быстро, потеряла с головы платок…» («В овраге»).
Прежний прием, сохранив свою внутреннюю суть, преобразовался под влиянием новой тенденции – возросшей роли повествователя в структуре повествования 1895–1904 годов.
4
Говоря о таких способах передачи чужого высказывания, при которых оно включается в передающую речь не в своем нетронутом виде, а в переоформленном (так что сохраняется только смысл, «тема» высказывания), В. Волошинов отмечал, что широкое распространение эти «тематические» способы могут получить лишь в тексте, где автор (по нашей терминологии – повествователь) активен, где он «своими словами сам, от своего лица, занимает какую-то смысловую позицию»[52].