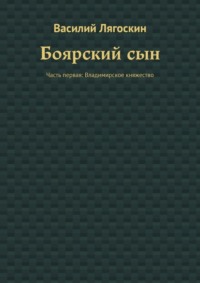
Боярский сын. Часть первая: Владимирское княжество

Боярский сын
Часть первая: Владимирское княжество
Василий Лягоскин
© Василий Лягоскин, 2024
ISBN 978-5-0062-2217-5 (т. 1)
ISBN 978-5-0062-2218-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Глава 1
– «Ой, где был я вчера? – не найти днем с огнем…». Кажется так описывал нынешнее мое состояние Высоцкий в своей песне? Ну, не любитель я его творчества, не любитель. А сейчас почему-то вспомнилось. Хотя что значит: «Где?». Это я точно помню. В начале. На банкете я был, по случаю проводов меня, любимого, на заслуженную пенсию. Ну и, естественно, увольнения с последнего места службы. М-да… последнего и, по сути, первого. Вот как пришел молодым специалистом после физмата Владимирского педагогического, который теперь университет, так и работал на ниве, так сказать, статистики. Самой точной из наук, кстати. Это я в шутку, со слов «коллеги» из фильма «Служебный роман». Сорок два года, кстати, проработал; без перерыва. Не совсем на одном месте, если быть точным. Рос помаленьку – в основном вместе с отделом, который потом стал управлением, а затем департаментом. Вот в последнем до заместителя начальника отдела и дослужился. Да – да, именно служил. В армии, ни Советской, ни Российской не сподобился. Плоскостопие, самое настоящее, без взяток. А здесь – служба, да не абы какая, а государственная. А потому и пенсия, вместе с надбавкой, повышенная. Так что для одного, с учетом старенькой, но собственной двухкомнатной квартиры в Добром, и абсолютного нежелания (ну, и возможности, конечно) сесть за руль автомобиля, вполне должно хватать.
Ну, а работа… честно скажу – с самого начала не горел. Ни с кем близко не сошелся – ни на службе, ни в соседях. Женщины… как не быть, были. Но сейчас вспоминать не буду. Больно. И от воспоминаний, и голова… Это сколько же я вчера выпил? И вчера ли? И кто меня домой доставил? Домой?
Виктор Николаевич Добродеев открыл глаза. С опаской, ожидая рези в них, от яркого света. Увы, или во благо, но света вокруг было совсем немного. Только-только достаточно, чтобы определить, что находится он сейчас на кровати, причем не своей – судя по жесткости последней.
– Тут что – доски вместо матраса фабрики «Аскона», который я по скидке, за двадцать тысяч купил? – задал он себе вопрос, – и что это за потолок такой странный?
Действительно – вместо его стандартного, из железобетонных плит, оштукатуренного и покрашенного не самой дешевой краской белого цвета, был тоже беленый, но набранный из строганых досок.
– Побелка, кстати, уже лупиться начала, – автоматически отметил Виктор Николаевич, – и доски тоже… не идеальной геометрии. Так, кажется, говорят специалисты. Да, и лампы никакой нет. Ни люстры, ни обычной «лампы Ильича» на проводе. Странно…
Странность была не последней. Это он определил; неторопливо – чтобы опять не колыхнулась боль в черепушке – сев на кровати. Простыня, или что-то вроде тонкого, грубого на ощупь покрывала, сползла при этом, обнажив торс. Но на него Виктор Николаевич внимания не обратил. Поначалу. Оценил прежде всего обстановку в помещении, где оказался благодаря неизвестным доброжелателям. Это он так определил для себя лицо, или лиц, доставивших его на эту кровать с тонким матрасом и совсем уж тонюсеньким покрывалом.
– Да, чистенько и бедненько, – вынес он вердикт, разглядев в полутьме, что в комнате размером примерно три на три метра ничего кроме кровати и деревянного стула рядом нет.
Ну, и дверь, конечно.
– На тюрьму не похоже, – решил он, также неторопливо размышляя, – и на больницу тоже. Гостиница? Отель какой-нибудь в стиле ретро? Так и там хоть какую тряпку на окно повесили бы. А здесь…
Здесь была деревянная рама, забранная частым деревянным же переплетом, и крохотными стеклами, и луна со звездами за ними. Наверное – потому что тел этих небесных Добродеев со своей кровати не видел, но испускаемым ими светом пользовался. Оставался еще один неисследованный предмет. Он сам.
– Хотя чего я там не видел, – чуть скривился Виктор Николаевич, – могу с закрытыми глазами описать. Рост – метр шестьдесят два. Вес излишний – почти восемьдесят шесть кэгэ. Волос на голове чуть больше, чем подмышками. Лицо… Самое обычное… Было. Шестьдесят два прожитых года красоты не добавляют, особенно если ее изначально не слишком много было. Кожа дряблая, морщинистая, которую так трудно было по утрам выбривать дочиста.
Настолько, что Виктор Николаевич уже разрешил с выходом на пенсию дать себе поблажку – бриться не каждый день, а пару раз в неделю. Или даже один раз. А уж вставная челюсть, которая вчера так мешала наслаждаться блюдами, на которые ушли практически все деньги – и премия напоследок, и за неиспользованный отпуск, и зарплата последняя… И совсем не мешала, простите за тавтологию, мешать водочку с шампанским… С которого, собственно, все и началось. Потом коньячок, ну и пивка кто-то уговорил хлебнуть. Настолько не мешала, что…
Виктор Николаевич сейчас совсем не удивлялся, рассматривая чужой торс на том месте, где должен был располагаться его собственный живот. Тут была полная противоположность тому, что так мрачно описывал он только что в своих мыслях. Тело, открытое его взгляду, даже в полутьме, выглядело мощным, развитым, и… молодым, что ли? Это он по состоянию кожи определил – гладкой, загорелой, с едва наметившимися волосинками на груди. Темного цвета, кстати. Единственное, что могло его объединять с родным, добродеевским, это чуть заметная полнота.
Виктор Николаевич резко, рывком сорвал покрывало с нижней части тела. Чужого, с одной стороны, и его собственного – исходя из того, что он его ощущал, двигал им. Таких ног – накаченных, мускулистых – и того, что свисало сейчас между ними, у Добродеева никогда не было. В общем, это тело ему не принадлежало. Казалось, пора было поддаться панике. Рвануть, к примеру, к той же двери, и застучать в нее, вызывая врача или медсестру…
– Санитаров, – хохотнул он вдруг негромко, – в дурке с пациентами по большей части санитары занимаются. Здоровенные такие лбы с резиновыми палками. Но в таком теле я, наверное, с ними потягался бы.
Это была совсем несвойственная ему мысль. Как и спокойствие, которым бывший госслужащий Виктор Николаевич Добродеев никогда не отличался. Вместо того, чтобы действительно рвануть к двери, он, вдохнув полную грудь воздуха, опустился на спину, так и не прикрывшись, и потянулся… не до конца. Хрясь – и чуть ошеломленный Добродеев ощутил себя лежащим уже под углом к поверхности пола.
– Градусов так двадцать пять, – опять совершенно спокойно определил он, поворачивая голову к двери.
За ней вполне объяснимо послышался негромкий шелест подошв. Объяснимо, потому что в практически абсолютной ночной тишине треск лопнувшего дерева и грохот упавшего на пол края кровати прозвучали едва ли не как выстрел.
– Вот это я дал! – даже чуть обрадовался почему-то Виктор Николаевич, – это сколько же во мне теперь роста? Или кровать такую крохотную подобрали. Из детского отделения. Если я сейчас в каком-то собственном бреду, то получается, что наружу вылезли самые потаенные желания. К примеру, стать большим, сильным, молодым. А вот такое желание определенно не мое!
Более впечатлительный человек, которым, несомненно, еще недавно был Виктор Николаевич, сейчас бы рванул подальше – в угол, или даже в окно; прямо так, голышом. Потому что в комнату неспешно вступило чудовище. Самое настоящее. Но в голове Добродеева вдруг всплыло воспоминание – не его, чужое. Как будто он сам вот такими шуточками – страшилками в виде фонарика к лицу, да в темноте, да в комнату к девчонкам…
Тут фонарика не было. А была свеча, которая первой «вплыла» в комнату, а за ней лицо – женское, старушечье. Которое в силу особенностей освещения выглядело сейчас персонажем из фильма ужасов. Сам Виктор Николаевич такое кино не жаловал, но в памяти вдруг всплыло сразу несколько картинок. Как будто собственно пережитых, или просмотренных, кстати.
А свеча, между тем, описала полукруг, так что женское лицо оказалось в полутьме, а общая освещенность в комнате чуть повысилась. Голос же, прозвучавший следом, был вполне приятным, даже мелодичных. И слова были вполне понятными, хотя какими-то… архаичными, что ли? Хотя Добродеев их понял. Как понял и то, что может свободно общаться с незнакомкой, выглядевшей стандартной медсестрой девятнадцатого, да и половины двадцатого века тоже.
– А батюшки, барич! Вы бы прикрылись, что ли? Мне-то вроде как по возрасту, и должности стесняться не приходится, но все же. Ага – доломали все же кровать-то?! А я говорила Никите Сергеичу!
Как-то у Добродеева ловко получалось интерпретировать слова сестрички в современном для него звучании. А вот говорить? Он хрипло откашлялся, и попросил, заставив себя добавить в голос немного жалостливости:
– Мне бы водички, э.э.э…
– Неужто, запамятовал, барич? – женщина взмахнула руками так, что Добродеев не на шутку испугался – как бы от взметнувшегося пламени свечи не загорелась ее прическа.
Но нет – теперь было видно, что все волосы были аккуратно прикрыты косынкой с темно-красным сейчас крестом. И волосы эти, как почему-то помнил Виктор Николаевич, были абсолютно седыми. Тут в голове что-то щелкнуло.
– Ну, точно счеты, – вспомнил он свой первый рабочий день, и первый рабочий стол в далеком восемьдесят третьем году, – лет пять они у меня на столе место занимали. Вот так же иногда от нечего делать щелкал. Но тогда без толку, а сейчас почему-то проклюнулось:
– Анна… Николаевна?
– Да уж скажете, барич, Николай Ильич! Когда это я Николаевной была? Зовите, как и все – Анной. Ну, или тетушкой, как в прошлый раз… Ну, я сбегаю, принесу попить чего ни-то.
В комнате опять воцарился полумрак, а в голове щелкнуло еще раз. Теперь Виктор Николаевич почему-то был уверен, что эти стены, кровать со стулом и окошко он видел уже… года два назад. Тогда на этой кровати Добродеев, а точнее Николай Ильич, он же Коля, или Николаша, лежал со сломанной ногой.
– А когда разрешили наступать, так я в окно… тут как раз первый этаж. И единственный.
Зачем и куда бегал когда-то недолеченный парень, Добродеев «вспомнить» не успел. Вернулась тетушка Анна. С кружкой в руке. А точнее, каким-то ковшиком. Как понял Виктор Николаевич еще до того, как взял его в руки, деревянным. Теплым, в отличие от напитка, который изумительным прохладным нектаром полился в горло.
– Таким лечить можно, – решил он, опустошив единым махом емкость на литр, не меньше, – чего тут только не намешали!
Разбираться в разнотравье, или «разноягодье» сейчас он не стал. Кивнул благодарно, возвращая ковш, и заговорил – опять с теми же вопросительными и чуть жалобными интонациями:
– Не поверите, тетушка Анна, – ну вот совсем не помню, как я сюда попал…
– А где ж вам помнить-то, – с готовностью восприняла вопрос в его голосе медсестра, – когда вы головой-то своей, да с двух саженей вниз. Ой!
Она посмотрела на Николая, или Виктора Николаевича в его теле с испугом, прикрыв рот ковшиком, а потом продолжила, добавив в голос хорошую такую долю сострадания:
– Неужто не помните, барич?
– Нет! – мотнул головой парень.
Ну, внешне он выглядел – даже без взгляда на зеркало – накаченным, и одновременно упитанным подростком. Так теперь он и решил себя позиционировать. Это Добродеев так решил. Николаша, скорее всего, и слова такого не знал. А тетушка все же решилась.
– Так на похоронах батюшки вашего, Ильи Николаевича, сомлели вы, барич. Прямо вместе с комом земли в руке и упали вниз. Да головой прямо на гроб. Пока достали, да сюда доставили. Мужички-то жаловались, что еле подняли такого… Ой! – она опять закрыла рот ковшиком, – а ведь и шестнадцати годков нету вам, Николай Ильич.
И еще раз в голове щелкнуло. Теперь Добродееву был понятен алгоритм – так он визуализировал для себя открывшийся «файл» – кусочек чужих воспоминаний. Теперь они выглядели так. Мрачный; весенний, или осенний день с остатками грязного снега под ногами. Толпа наряженных во вполне привычные почему-то костюмы тех же самых девятнадцатого, или начала двадцатого веков людей. Кресты за их спинами, и кирпичного цвета груда земли под ногами. Вот он склоняется к ней, зачерпывает ладонью горсть, и отключается. Чтобы прийти в сознание уже тут, в Боголюбовской уездной больнице. Последнее тоже вспомнилось только что.
Точнее, в сознание пришел уже Виктор Николаевич Добродеев.
– Николаша, ау! – зачем-то проорал внутрь себя; внутрь чужого тела Виктор Николаевич, – отзовись.
Никто не отозвался. И файл последний ограничился как раз кладбищенской картинкой.
– А нет! – даже обрадовался Коля новому кусочку воспоминаний.
То же кладбище, и четверо мальчишек в ночи, крадущихся, и шепотом пугающих друг друга. Он даже вспомнил имена этих пацанов, но сейчас не стал акцентировать на них внимания. Потому что в свете выглянувшей из-за низких туч луны картинка впереди, за пределами кладбища была куда как удивительной. Почти такой же невероятной, как и то, что Добродеев видел сейчас чужими глазами.
Кладбище, судя по крестам и надписям на могильных камнях, было привычным; что называется, исконно русским. Даже даты не царапали взгляд – на могильном камне, рядом с которым Колю настигло воспоминание были даты: «Одна тысяча шестьдесят восьмой – две тысячи пятнадцатый». На имени и фамилии заострять внимание Виктор Николаевич не стал. В чужом воспоминании он вытаращился на самый настоящий средневековой замок. И при этом было абсолютное понимание того, что замок этот – его дом. В смысле, Коли, Николая Ильича; пока бесфамильного. Как-то файл этот не открывался без подсказки.
Пока он размышлял на тему собственных, Виктора Николаевича, воспоминаний, в которых никаких замков рядом с Боголюбовым, а значит, и с Владимиром в начале двадцать первого века не было, тетушка Анна из комнаты благополучно испарилась. Вместе со свечой и пустым ковшиком. А Виктор Николаевич, он же Коля неполных шестнадцати лет, остался в своих недоумениях. Если можно так сказать. Вообще-то, подумалось куда как пошлее и категоричней.
– И точнее, – определил Добродеев термин, который пришел сейчас в голову.
И который, подумалось, не мог вот так, спонтанно, выговорить – пусть даже про себя – ни сам он, шестидесятидвухлетний пенсионер, ни шестнадцатилетний подросток.
– Барич, что б меня через колено, – выразился еще раз не в свойственной ему манере Добродеев, – а точнее, целый боярич!
Аукать внутрь себя он не стал. По уважительной причине, кстати. Литр выпитого морса, или похожего вкусом напитка вдруг резко попросился наружу. Искать под кроватью медицинскую утку Виктор Николаевич не стал. Не потому, что последняя могла пострадать от кроватной катастрофы. Просто разархивировался еще один файлик из прошлого Николаши. Никакой утки под кроватью отродясь не было. И по нужде – и большой и малой – паренек хромал вполне успешно на двор, в «туалет типа сортир». Причем, что удивительно, сломанную ногу при этом хранил не гипс, и не дощечка, примотанная тряпками, а самый настоящий аппарат системы Илизарова. Ну, или его аналог.
– Целителя Тучкова, – выползла еще одна мысль.
Как и лицо доктора, объяснявшего когда-то бояричу подробности новой, но вполне оправдавшей себя системы лечения.
– Ага, – вспомнил тут же Добродеев, он же боярич Коля, – вот и Никита Сергеич нарисовался. Совсем не такой, каким я его себе представлял. Не лысый и не круглолиций. И не с ботинком в одной руке и кукурузным початком в другой. Вполне себе интеллигентного вида доктор. Клистирная трубка, так сказать. Ну, или как там эта трубочка называется?
Ответ тут же прозвучал:
– Фонендоскоп, – вдруг выплыло из глубин подсознания, быть может даже не его, – а точнее стетоскоп. Изобретен в одна тысяча восемьсот шестнадцатом году французским доктором Рене Лаеннеком.
– Ни хрена себе, – только и прошептал Добродеев, – что я, оказывается, знаю. Или не я?
Показалось, или нет, но во время проговоренной недавно вполголоса фразы параллельно были слышны такты мелодии из популярной когда-то телеигры? Той самой, про «Что? Где? Когда?». Добродеев и сам как-то послал письмо с вопросом на адрес игры. Но своего вопроса на экране так и не дождался. А долго ждал.
Тут позывы молодого организма стали вовсе нестерпимыми, и юный богатырь, обернув полотнище вокруг бедер, помчался на улицу. Как оказалось, по вполне проверенному, и не раз хоженному когда-то маршруту. И окно отворилось привычным движением руки, и спрыгнул он наружу, практически не коснувшись подоконника, и березка, к которой он пристроилась оказалась вполне узнаваемой.
– Может, и подросла за два года-то, – думал Коля, облегченно улыбаясь, – с такой подкормкой. Ну, так и я на месте не стоял.
Как именно изменился боярич Николай Ильич, ни сам он, ни Виктор Николаевич, вспомнить не успели. Не дождались они привычного уже щелчка. Зато дождались других звуков, которые превратили старика в теле юного аборигена в хищника. Опасного и умелого. Почему так решил Добродеев? А сам не понял. Решил и все. А потом повернулся, готовый дать отпор тому, кто крался ему со спины, из-за угла не такого большого здания. Было до этого угла метров шесть, не больше. И половину этих метров незнакомец, державший в руках топор, уже преодолел.
Лицо этого мужика, или парня, было в тени, но фигурой незнакомец обладал внушительной. Как бы не крупнее, чем у Николаши. Но это с учетом того обстоятельства, что парень стоял босиком и практически голышом, а злодей, начавший уже поднимать топор над головой, был «упакован» по что-то объемное, схожее с солдатским бушлатом. Виктор Николаевич еще успел «припомнить», как носил такой вот бушлат, да не одну носку, и лишь потом спросил. Вроде с ленцой, и даже некоторым испугом в голосе:
– И чего тебе надо? Кому не спится в ночь глухую?
Ответ ожидаемо прозвучал не так, как прозвучал бы в солдатской казарме (в которой Добродеев ни разу не был!). Но примерно так, как ожидал хищник в теле парня. То есть злодей не стал сразу опускать топор на голову барича, а попытался оправдать, ну, или обосновать свое злодеяние.
– А это тебе, боярич, за Дарью.
– Какую Дарью? – вполне искренне изумился Виктор Николаевич.
Коля же внутренне завис. Но совсем не так отреагировал тот, кто когда-то, быть может провел часть своей жизни в казарме, и имел сомнительное удовольствие носить бушлат. Он шагнул навстречу остановившемуся почти вплотную незнакомцу, и опускающемуся вниз топору. Какой именно прием применило сейчас тело юного барича, а точнее, целого боярича, Виктор Николаевич так и не распознал. Не успел. Осознал себя и свое новое тело уже сидящим на том самом ватнике. Ну, и на парне, конечно. Который теперь глухо ворчал, не в силах произнести что-то членораздельное. А все потому, что рука его была жестко зафиксирована за спиной, а лицо не менее жестко упиралось в подтаявшую, еще (или уже) не обремененную травой землю.
Вот теперь Коля, а вместе с ним и Виктор Николаевич вспомнил последнюю свою отраду. Дашеньку из того самого села Ославское, в котором родился и вырос боярич. И где стоял его дом; тот самый замок. Небольшого росточка, крепенько сбитая, что называется – фигуристая. Лицо… чуть курносое с россыпью веснушек. Да уже стало и забываться. Ничего серьезного, на взгляд барича. Ну, и того, кто сейчас прижимал к холодной земле любителя помахать топором. Пару раз повалялись на сеновале; как говорится, без претензий. В том числе и со стороны самой Дашеньки. А вот со стороны парня, сейчас притихшего, и явно собиравшегося с силами, претензии очевидно были. Острые такие претензии; сейчас посверкивавшие в лунном свете метрах в пяти от замершей на земле композиции.
Добродееву, а больше тому, кто провел такой замечательный, а главное, своевременный захват с броском, как-то стало неуютно.
– Не дай бог, застанет кто, – подумал (подумали) Виктор Николаевич, – я тут практически голый, да в такой позе.
Поэтому, наверное, на фразу незнакомца – жениха или, там, братца Дашеньки – тело отреагировало само.
– Все равно порешу! – глухо выкрикнул злодей.
А рука боярича Николая Ильича – та самая, которая обхватывала мощное запястье лежащего под ним парня – сжалась чуть сильнее и… сделала что-то такое, отчего злодей затрясся и обмяк. А свежий ночной воздух заполнился сначала запахом озона (как после грозы), а потом тем самым удобрением, что пошло на пользу березке. Но теперь аромат этот исходил из-под недвижной фигуры парня. Виктор Николаевич же неведомым для него образом понял, что вот сейчас парень этот еще жив; быть может, жив, но через пару минут…
– Точнее минут пять, – сообщил он себе, поворачивая почти без всяких эмоций тяжеленное и недвижное тело на спину, – говорят, столько мозг может протянуть без подпитки кислородом.
«Пять минут, пять минут,,,», – пропел он чуть слышно голосом незабвенной для его поколения Людмилы Гурченко. Точнее, попытался изобразить; в то время, как пальцы Николаши пытались нащупать пульс на шее здоровяка. На лицо, сейчас освещенное луной он не смотрел. Покачал головой – пульса не было. И с непонятной уверенностью, чуть подпорченной грустинкой понял, что сейчас придется применять комплекс реанимационных мероприятий. Ну, там – непрямой массаж сердца, дыхание изо рта в рот. Почему с грустинкой? Да потому что опять представил себе, что кто-то появится здесь именно в тот момент, когда голый боярич «целует» бродягу без топора. Прямо в рот.
– И ничего не поделаешь, – пробормотал он, – не в первый раз. Сдюжим.
Вообще-то для Виктора Николаевича этот раз был первый. И, как он надеялся, последний. Ну, вот не собирался он идти по медицинской части. И в МЧС не собирался записываться.
– А сейчас, – вспомнилось вдруг, – лучше было бы воспользоваться дефибриллятором. Или как там его?
Распаковывать файл с точным названием прибора, годом и автором изобретателя он не стал. Понял, что все это уже закрепилось в памяти, хотя – как говорил тот, кто провел прием против противника, вооруженного топором, – это на хрен ему не вписалось. Ага. Вот-вот – не вписалось. Но когда руки Николаши одним движением отодрали и какие-то завязки на бушлате без пяти минут мертвеца, и пуговицы на рубахе под ним, кто-то из троих, а может и четверых, приложил общую ладонь к груди парня, с левой стороны. И постарался вызвать то самое ощущение, с которым Николаша заставил запястье злодея чуть ли не обуглиться. Это Виктор Николаевич отметил раньше, но акцентировать внимание на черной руке пока не стал. Не до того было. И знаете, получилось. Что-то. А точнее, недвижное тело вдруг подпрыгнуло – словно кто-то саданул его кулаками снизу, из-под земли. А потом парень захрипел, и закашлялся так, что Добродеев невольно отшатнулся. Очень уж полноводным был поток воздуха вперемежку со слюнями и соплями изо рта возвращенного к жизни. А еще, отдернув при этом руку от обнаженной груди, боярич увидел, что на широкой и бледной груди спасенного им человека краснеет четкий отпечаток ладони. Его ладони.
– Ну, надеюсь, отпечатки пальцев снять не получится, – подумал с непоняткой смешинкой Виктор Николаевич.
С чужой подачи подумал, конечно. Сам бы он… Да сам бы он чуть раньше в двери вышел, и настоящий туалет искал бы.
– И с парнем этим… нет, – признался он себе, – с ним все равно пришлось бы вот так, силовыми методами. Хорошо, что все хорошо закончилось. Или еще не закончилось? Ты как, парень?
Спросил он вполне доброжелательно, но тот такой тон определенно не воспринял. Прямо лежа на спине, работая ногами и лопатками, пополз от боярича, теперь уже подвывая что-то неопределенное. Виктор Николаевич все же распознал что-то вроде «Одаренный»; ну, еще «Не буду» вместе с постоянным «Свят-свят-свят».
– Вот, и хорошо, что не будешь, – улыбнулся еще шире боярич, – дорогу-то домой найдешь? И топор не забудь.
Парень часто закивал и, перевернувшись, рванул с низкого старта. Топор, кстати, так и не подобрал. Ну, и Добродеев ушел. Точнее, запрыгнул в свое окошко; единственное открытое на этой стороне здания.
Внутри ничего не поменялось. Все также стояла уголком памятником росту боярича Николаши кровать; молчал в углу стул, «не сказавший» еще в этой реальности своего слова. Парень же, пожав широкими плечами, наклонился, поднял кровать за целый край. Никакого крепления там не обнаружил, а потому, вернув спинку на пол, нанес удар. Кулаком, в точку сопряжения, о которой пару секунд даже не подозревал. И не ошибся. Спинка отвалилась, и не загрохотала лишь потому, что этим краем кровать опиралась в стену. А вот боль в разбитых костяшках кулака была сильной и… неожиданной. Подспудно Добродеев ожидал, что никаких травм, даже микроскопических, не будет. А тут едва ли не перелом получил.
– Да-а-а, – протянул он, тряся перед глазами расправленными пальцами, – с этим еще работать и работать.