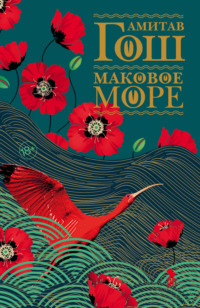
Маковое море
Вот так мать Джоду оказалась в услужении у Пьера Ламбера, который совсем недавно прибыл в Калькутту на должность помощника управляющего Ботаническим садом. Предполагалось, что мать останется в доме, пока ей не подыщут замену, но как-то никого не нашлось. Само собой вышло, что матушка стала кормилицей Полетт и баюкала на руках двух младенцев. Возражения со стороны отца увяли, как только француз купил ему новую, превосходную баулию; вскоре папаша отбыл в Наскарпара, оставив в городе жену и сына, но прихватив с собой новенькую лодку. С тех пор он показывался очень редко – как правило, в начале месяца, когда матушка получала жалованье. На ее деньги он еще раз женился и наплодил кучу детей. С братьями-сестрами Джоду встречался два раза в год, когда неохотно приезжал на праздники Рамадан-байрам и Курбан-байрам. Деревня была ему чужой, а домом стало бунгало в усадьбе Ламбера, где он правил как наперсник и шутейный супруг маленькой хозяйки.
Что же до Полетт, то сначала она заговорила на бенгали, а первым после кашек блюдом стал рис с чечевицей, состряпанный тетей-мамой. Фартуку она предпочитала сари и терпеть не могла обуви, желая бегать по саду босоногой, как Джоду, с которым в раннем детстве была неразлучна и без которого отказывалась есть и спать. Из всех детей прислуги только ему был открыт доступ в хозяйский дом. С малых лет Джоду понял, что все это благодаря особым отношениям мамы с хозяином, которые заставляли их допоздна засиживаться вдвоем. Однако дети не обращали на это внимания и принимали как один из многочисленных фактов необычного домашнего уклада, ибо не только Джоду с матерью, но еще в большей степени Полетт с отцом выпали из своего круга. Белые почти никогда не заглядывали в бунгало матери с сыном, а Ламберы сторонились круговерти английского общества в Калькутте. На другой берег француз ездил только “по делям”, а все остальное время посвящал своим растениям и книгам.
Более приземленный, чем его подружка, Джоду заметил отчужденность хозяина и его дочки от других белых саибов и вначале объяснял это тем, что они родом из страны, которая часто воевала с Англией. Однако потом, когда их общие с Путли секреты стали существеннее, он узнал, что не только это разделяло Ламберов и англичан. Выяснилось, что Пьер Ламбер оставил родину, ибо в юности участвовал в бунте против короля, а респектабельное английское общество сторонилось его, потому что он публично отрицал существование Бога и святость супружеских уз. Джоду не придавал этому ни малейшего значения и только радовался, что подобные обстоятельства ограждают их дом от других белых саибов.
Дети подрастали, но не это и не разница в происхождении, а нечто совсем неуловимое подточило их дружбу. В какой-то момент Полетт пристрастилась к чтению, и ни на что другое у нее не оставалось времени. Джоду, наоборот, утратил интерес к буквам, едва научился их распознавать – его тянуло к воде. В десять лет он уже так лихо управлялся со старой отцовской лодкой, колыбелью новорожденной Полетт, что не только служил Ламберам перевозчиком, но и сопровождал их в экспедициях за образчиками растений.
Пусть необычный, но уютный уклад их дома выглядел таким удобным и прочным, что все они оказались не готовыми к невзгодам, последовавшим за внезапной смертью Пьера Ламбера. Лихорадка уморила его, прежде чем он успел привести в порядок дела; вскоре после его кончины выяснилось, что его исследования, требовавшие денег, накопили существенные долги, а загадочные поездки “по делям” означали тайные визиты к городским ростовщикам. Вот тогда-то Джоду с матерью заплатили за свою особую близость к помощнику управляющего. Неприязнь и зависть других слуг тотчас перекипели в злое обвинение: парочка обворовала умирающего хозяина. Бешеная враждебность заставила мать с сыном бежать из дома. Не имея выбора, они вернулись в Наскарпара, где их нехотя приютила новая семья отца. Однако после долгих лет комфортабельной жизни мать уже не могла приспособиться к деревенским лишениям. Здоровье ее неуклонно ухудшалось, она так и не оправилась.
В деревне Джоду провел четырнадцать месяцев и за все это время ни разу не видел Полетт, не получил от нее ни весточки. На смертном одре мать часто вспоминала свою подопечную и умоляла сына хотя бы разок повидаться с Путли, чтобы та узнала, как сильно тосковала по ней старая нянька на закате своей жизни. Джоду давно уже смирился с тем, что он и его былая подружка разойдутся каждый по своим мирам; если б не просьба матери, он бы не стал искать Полетт. Однако теперь, когда Путли была так близко, его охватило волнение: захочет ли она увидеться или вышлет слугу с отказом? Вот если б встретиться наедине, ведь так много накопилось, о чем поговорить. Впереди замаячила зеленая крыша беседки, и Джоду шибче заработал веслом.

4
Вопреки безрадостной цели поездки, на душе у Дити было удивительно легко; она словно чувствовала, что в последний раз едет этой дорогой, и хотела от путешествия взять сполна.
Медленно пробившись сквозь сумятицу проулков и базаров в центре города, повозка свернула к реке, где толчея стала меньше, а окрестности привлекательнее. Редко наезжавшие в город мать с дочерью зачарованно смотрели на стены Чехел-Сотуна – копии дворца сорока колонн в Исфахане, возведенной аристократом персидских кровей. Немного погодя миновали еще большее чудо с желобчатыми колоннами и высоким куполом в греческом духе – мавзолей лорда Корнуоллиса, снискавшего известность под Йорктауном и тридцать три года назад почившего в Гхазипуре; с громыхающей повозки Дити показала дочери статую английского губернатора. Вдруг тележка съехала на тряскую обочину, Калуа прищелкнул языком, осаживая быков. Дити с Кабутри обернулись посмотреть, что там впереди, и улыбки сползли с их лиц.
Дорогу занимала толпа человек в сто, а может, больше; под конвоем вооруженных палками охранников она устало плелась к реке. На головах и плечах людей покачивались узлы с пожитками, на сгибах локтей болтались медные котелки. Дорожная пыль на дхоти и блузах говорила о том, что путники идут уже давно. У зевак их вид вызывал жалость и страх, одни сочувственно цокали языком, но другие, ребятня и старухи, швыряли в толпу камнями, будто стремясь отогнать нездоровый дух. Несмотря на изможденность, путники вели себя на удивление непокорно, если не сказать дерзко – кое-кто отвечал зевакам теми же булыжниками, и такая бравада тревожила публику не менее затрапезной наружности.
– Кто это, мам? – прошептала Кабутри.
– Не знаю. Может, узники?
– Нет, – вмешался Калуа, показав на женщин и детей, мелькавших в толпе.
Они еще гадали, кто эти люди, когда один конвоир остановил повозку; начальник конвоя дуффадар[27] Рамсаран-джи ушиб ногу, сказал он, надо подвезти его к причалу. Дити с Кабутри тотчас подвинулись, освобождая место для высокого толстопузого человека в безупречно белой одежде и кожаных башмаках. Тяжелая трость и огромная чалма добавляли ему импозантности.
Возчик и пассажиры сильно оробели, но Рамсаран-джи нарушил молчание, обратившись к Калуа:
– Кахваа се авела? Откуда вы?
– Паросе ка гао се ават бани. Из окрестной деревни, господин.
Узнав родной бходжпури, Дити с Кабутри придвинулись ближе, дабы не пропустить ни слова.
Калуа наконец отважился на вопрос:
– Кто эти люди, малик?
– Гирмиты, – ответил дуффадар, и Дити негромко охнула.
Слух о гирмитах уже давно ходил в окрестностях Гхазипура; она никогда не видела этих людей, но слышать о них слышала. Им дали это имя по названию бумаги, куда их записывали в обмен на деньги[28]. Семьи гирмитов получали серебро, а сами они навеки исчезали, словно канув в преисподнюю.
– Куда их ведут? – Калуа перешел на шепот, будто говорил о живых мертвецах.
– Корабль отвезет их в Патну, а затем в Калькутту, – ответил начальник. – Оттуда их переправят в место под названием Маврикий.
Дити уже не могла терпеть и, прикрывшись накидкой, вмешалась в разговор:
– А где этот Маврикий? Рядом с Дели?
– Нет, – снисходительно улыбнулся Рамсаран-джи. – Это морской остров вроде Ланки, только еще дальше.
Имя Ланки пробудило воспоминание о Раване[29] с легионами демонов. Дити вздрогнула. Как же эти люди не грянутся оземь, ведая, что их ждет? Дити представила себя на их месте: каково знать, что ты навеки изгой, никогда уже не войдешь в отчий дом, не обнимешь мать, не разделишь трапезу с братьями и сестрами, не почувствуешь очищающего прикосновения Ганга? Каково знать, что до конца дней будешь влачить жизнь на диком, зачумленном бесами острове?
– Как они туда доберутся? – спросила она.
– В Калькутте их ждет огромный корабль, какого ты в жизни не видела, там уместятся сотни людей…
Хай Рам! Боже ты мой! Так вот оно что! Дити зажала рукой рот, вспомнив видение корабля над водами Ганга. Но зачем призрак возник перед ней, если она никак не связана с этими людьми? Что бы это значило?
Кабутри мгновенно догадалась, о чем думает мать:
– Ты же видела корабль, похожий на птицу, да? Странно, что он явился тебе.
– Молчи! – вскрикнула Дити.
Охваченная страхом, она крепко прижала к себе дочь.
* * *Вскоре после того как мистер Дафти возвестил о прибытии Бенджамина Бернэма, на палубе послышались грузные шаги. Желтоватые бриджи и темный сюртук судовладельца были покрыты пылью, а сапоги густо заляпаны грязью, но поездка верхом явно его взбодрила, ибо на разгоряченном лице не отмечалось ни малейших следов усталости.
Мужчина внушительного роста и объема, Бенджамин Бернэм носил густую курчавую бороду, прикрывавшую его грудь наподобие сияющей кольчуги. Он вплотную приблизился к пятидесятилетнему рубежу, однако походка его не утратила юношеской упругости, а в зорких глазах сверкала искра, какая бывает у тех, кто никогда не озирается по сторонам, но смотрит только вперед. Его продубленное лицо потемнело – результат многолетних усердных трудов на солнце. Ухватившись за лацканы сюртука, он насмешливо оглядел команду и отозвал в сторонку мистера Дафти. Они коротко переговорили, после чего мистер Бернэм шагнул к Захарию и протянул ему руку:
– Мистер Рейд?
– Так точно, сэр. – Захарий ответил на рукопожатие.
– Дафти говорит, для новичка вы весьма смышлены.
– Надеюсь, он прав, сэр, – ушел от ответа Захарий.
Судовладелец улыбнулся, сверкнув крупными зубами:
– Как насчет того, чтобы устроить мне экскурсию по моему новому судну?
Бенджамин Бернэм излучал особого рода властность, предполагавшую в нем выходца из богатой привилегированной семьи, но впечатление это было обманчиво. Купеческий сын, он гордился тем, что всего в жизни добился сам. За два дня любезность мистера Дафти весьма обогатила Захария сведениями о Берра-саибе: скажем, несмотря на всю его фамильярность с Азией, Бенджамин Бернэм не был “здешним уроженцем” – “в смысле, он не из тех саибов, кто испустил свой первый крик на Востоке”. Сын ливерпульского торговца древесиной, он и десяти лет не прожил “дома” – “что означает старушку Европу, а не дикую глушь, откуда вы родом, мой мальчик”.
В детстве, рассказывал лоцман, парень был “чистый шайтан” – драчун, баламут и просто раззепай, которому светило всю жизнь скитаться по каторгам да тюрьмам, и чтобы спасти дитятко от уготованной ему судьбы, родители сплавили его в “морские свинки” (“так в старину индусы называли юнг”), которых каждый гнобил как вздумается.
Но даже строгости Ост-Индской компании не удалось усмирить паренька. “Как-то рулевой заманил его в каптерку, чтоб удли-будли[30] по-быстрому. Однако юный Бен, даром что шкет, не мандражнул, но схватил кофель-нагель и так отходил педрилу, что тот отдал концы”.
Во благо самому Бену его списали с корабля в ближайшем порту, которым оказался Порт-Блэр – британская исправительная колония на Андаманских островах. Служба у тюремного капеллана стала для парня школой наказания и милосердия, в которой он обрел веру и получил образование. “У проповедников рука тяжелая, мой мальчик, они вложат в вас слово Божье, даже если для этого придется вышибить вам все зубы”. Полностью исправившись, Бен отбыл в Атлантику, где какое-то время служил на “обезьяннике”, курсируя между Америкой, Африкой и Англией. В девятнадцать лет он оказался на корабле, на борту которого в Китай плыл известный протестантский миссионер. Случайное знакомство с преподобным переросло в крепкую долгую дружбу.
“Вот так оно там устроено, – рассказывал лоцман. – Друзья познаются в Кантоне[31]. Китайцы держат бесовских чужеземцев в факториях за городскими стенами. Ни один чужак не смеет покинуть отведенную полоску земли и пройти через городские ворота. Некуда прогуляться или съездить. Даже чтоб сплавать на лодчонке, надо получить официальное разрешение. Никаких женщин – только сиди и слушай, как менялы подсчитывают монеты. Одиноко, словно мяснику в постный день. Некоторые не выдерживали, их отправляли домой. Кто-то ходил на Свинюшник, чтобы снять баядерку или надраться сивухи. Но не таков Бен Бернэм – когда не торговал опием, он шел к миссионерам. И чаще всего в американскую факторию, набожные янки были ему больше по вкусу, нежели коллеги из компании”.
Преподобный замолвил словечко, и Бенджамин устроился клерком в торговую фирму “Магниак и компания”, предшественницу “Джардин и Матесон”; отныне Бернэм, как всякий иностранец, торгующий в Китае, делил свое время между двумя полюсами в дельте Жемчужной реки – Кантоном и Макао, отстоящими друг от друга на восемьдесят миль. В Кантоне купцы торговали зимой, а все прочие месяцы жили в Макао, где компания располагала широкой сетью пакгаузов и фабрик.
“Бен Бернэм торчал в порту на разгрузке опия, но он не из тех, кто удовольствуется месячным жалованьем в чужой ведомости, парень мечтал стать полноправным набобом, у которого персональное место на калькуттском опийном аукционе”. Как многим чужеземным купцам, ему помогли церковные связи, поскольку миссионеры имели тесный контакт с торговцами опием. В 1817 году Ост-Индская компания выдала Бернэму документ свободного предпринимателя, и ему тотчас улыбнулась удача в виде группы новообращенных китайцев, которых надлежало сопроводить в колледж баптистской миссии в Серампоре. “А кто лучше Бернэма справится с задачей? Глядь-поглядь, а он уже ищет место под контору в Калькутте и, что интересно, находит. Шельма Роджер дает ему ключи от дома на Стрэнде!”
Бернэм перебрался в Калькутту, с тем чтобы участвовать в опийных аукционах Ост-Индской компании, однако первый финансовый успех ему принесла иная торговля, в которой он поднаторел еще в юности. “Как говаривали в старые добрые времена, из Калькутты вывозят только отраву и душегубов – опий и кули, если угодно”.
Первой удачей Бернэма стал контракт на перевозку каторжников. В то время Калькутта была главным перевалочным пунктом, из которого индийских узников отправляли в островные тюрьмы – Пенанг, Бенкулен, Порт-Блэр и Маврикий. Мутные воды Хугли уносили в Индийский океан тысячи воров, убийц, грабителей, мятежников, охотников за головами и всяческой шпаны. Их рассеивали по острогам, куда британцы упекали своих недругов.
Набрать команду было непросто, поскольку мало кто желал поступить на судно, перевозящее головорезов. “Бернэм взялся за дело с того, что вызвал приятеля по «обезьяньим рейсам» Чарльза Чиллингуорта – капитана, слывшего лучшим надсмотрщиком, ибо еще ни одному рабу или каторжнику не удалось сбежать из-под его опеки”. В струе перевозок, хлеставшей из Калькутты, Бен с помощью друга намыл себе состояние и вошел в китайскую торговлю на том уровне, о котором даже не помышлял, – вскоре он обзавелся собственной приличной флотилией. К тридцати годам он вместе с двумя братьями создал фирму, ставшую ведущим торговым домом с представительствами в таких городах, как Бомбей, Сингапур, Аден, Кантон, Макао, Лондон и Бостон.
“Вот вам чудеса колоний. Юнга, лазавший в клюзы[32], превращается в высокородного саиба, как дважды рожденный[33]. В Калькутте перед ним открыта любая дверь. Обеды у губернатора. Завтраки в форте Уильям. Ни одна роскошная дамочка не посмеет отказать ему в визите. Он отдает предпочтение Низкой церкви[34], но, будьте уверены, епископ всегда ему рад. Наконец, в жены он берет благороднейшую мисс Кэтрин Брэдшоу, генеральскую дочь”.
* * *Натура Бена Бернэма, сделавшая его набобом, полностью проявилась в осмотре шхуны, которую он облазал от форштевня до кормы и от кильсона до утлегаря, подмечая все, достойное похвалы или упрека.
– Какова милашка на ходу, мистер Рейд?
– Великолепна, сэр. Плавна как лебедь и шустра как акула, – ответил Захарий.
Мистер Бернэм улыбкой оценил его восторг:
– Добро.
После внимательного осмотра шхуны судовладелец выслушал доклад о полном тягот походе из Балтимора, перебивая его въедливыми вопросами, и пролистал вахтенный журнал. Закончив перекрестный допрос, он объявил, что вполне доволен, и хлопнул Захария по спине:
– Молодец! Учитывая все обстоятельства, вы отлично справились.
Однако хозяина беспокоила команда ласкаров и ее вожак:
– С чего вы решили, что этот прохляла заслуживает доверия?
– Прохляла, сэр? – нахмурился Захарий.
– Так здесь называют араканцев[35], – пояснил Бернэм. – От одного этого слова местные туземцы приходят в ужас. Говорят, нет хуже пиратов, чем банда прохлял.
– Серанг Али – пират? – Захарий улыбнулся, вспомнив свое первое впечатление о боцмане, теперь казавшееся нелепым. – Да, сэр, этот человек немного смахивает на дикаря, но он такой же пират, как я. Если б Али намеревался угнать “Ибис”, он бы это сделал задолго до того, как мы бросили якорь. Я бы не смог ему помешать.
Бернэм вперился в Захария:
– Стало быть, вы за него ручаетесь?
– Да, сэр.
– Что ж, ладно. Однако на вашем месте я бы за ним приглядывал.
Мистер Бернэм отложил журнал и занялся корреспонденцией, накопившейся за время плавания. После того как Захарий передал прощальные слова мсье д’Эпинея о гниющем тростнике и отчаянной нехватке кули, письмо маврикийского плантатора вызвало его особый интерес.
– Как вы насчет того, чтобы вскоре опять сгонять на Маврикий? – почесывая бороду, спросил мистер Бернэм.
– Опять, сэр?
Захарий рассчитывал, что на переоснастку “Ибиса” уйдет пара месяцев, которые он проведет на берегу, и внезапная перемена планов застала его врасплох.
Видя его замешательство, судовладелец пояснил:
– В первом рейсе опия не будет. Китайцы баламутят, и пока они не поймут всю выгоду свободной торговли, я не пошлю груз в Кантон. До тех пор судно будет занято привычным для себя делом.
– То есть опять станет невольничьим кораблем? – перепугался Захарий. – Разве английские законы не запрещают работорговлю?
– Запрещают, – кивнул мистер Бернэм. – Еще как запрещают, Рейд. Печально, но еще много тех, кто ни перед чем не остановится, дабы помешать движению человечества к свободе.
– К свободе, сэр? – Захарий подумал, что ослышался.
Мистер Бернэм тотчас развеял его сомнения:
– Да, именно так, к свободе. А как иначе можно назвать господство белого человека над низшими расами? На мой взгляд, с тех пор как Господь вывел из Египта сынов израилевых, следующим величайшим шагом к свободе стала работорговля. Ведь так называемый раб в Каролине свободнее африканских собратьев, стонущих под игом черного тирана, правда?
Захарий подергал себя за мочку:
– Что ж, сэр, если рабство – это свобода, то я рад, что мне не довелось ее вкусить. Кнуты и оковы не по мне.
– Бросьте, Рейд! – хмыкнул мистер Бернэм. – Поход к сияющему на холме городу не бывает без муки. Ведь израильтяне тоже страдали в пустыне, а?
Не желая ввязываться в спор с новым хозяином, Захарий промямлил:
– Да, пожалуй…
Однако мистер Бернэм этим не удовольствовался и одарил собеседника насмешливой улыбкой:
– Я думал, вы и впрямь смышлены, Рейд. Однако ведете себя как паршивый реформатор.
– Вот как? Я не хотел…
– Надеюсь. По счастью, сия зараза еще не коснулась ваших краев. Я всегда говорил: Америка – последний бастион свободы, там рабству пока ничто не угрожает. Где бы еще я нашел судно, так идеально приспособленное для своего груза?
– Вы имеете в виду рабов, сэр?
– Да нет, – поморщился мистер Бернэм. – Не рабов – кули. Слыхали пословицу “Если Господь затворяет одну дверь, Он распахивает другую”? Когда для африканцев путь к свободе закрылся, Бог отворил его для племени, которое наиболее в том нуждалось, – для азиатов.
Захарий пожевал губами: ни к чему выведывать хозяйские планы, лучше сосредоточиться на деловых вопросах.
– Думаю, вы захотите подновить трюм?
– Верно. То, что предназначалось для рабов, вполне сгодится для кули и осужденных. Надо устроить пару отхожих мест, чтобы черные не обгадились выше головы. Проверяющие останутся довольны.
– Есть, сэр.
Бернэм запустил пальцы в бороду:
– Полагаю, мистер Чиллингуорт одобрит корабль.
– Новый капитан, сэр?
– Вы о нем слышали? – Мистер Бернэм опечалился. – Это его последний рейс, и я хочу доставить ему радость. Старые хвори дают о себе знать, капитан не в лучшей форме. Первым помощником будет мистер Кроул – превосходный моряк, но слегка несдержан. Вторым помощником хотелось бы взять разумного парня. Что скажете, Рейд? Готовы послужить?
Предложение так отвечало надеждам Захария, что сердце его екнуло.
– Вы сказали, вторым помощником, сэр?
– Ну да, – кивнул Бернэм и, словно утрясая вопрос, добавил: – Рейс пустячный – после муссонов поднять паруса и через шесть недель вернуться. На борту будет мой субедар с кучей надсмотрщиков и караульных. Человек он опытный, знает, как приструнить душегубов, чтобы не пикнули. Если все пройдет гладко, как раз поспеете к нашей китайской пирушке.
– Простите, сэр?
Мистер Бернэм обнял Захария за плечи:
– Говорю по секрету, так что не проболтайтесь. Поговаривают, Лондон снаряжает экспедицию, чтобы взяться за Поднебесную. “Ибис” должен участвовать… вместе с вами. Что скажете? Справитесь?
– Можете на меня рассчитывать, сэр, – пылко ответил Захарий. – В серьезном деле я не подведу.
– Молодчина! – Мистер Бернэм потрепал Захария по спине. – А что “Ибис”? В стычке пригодится? Сколько у него пушек?
– Шесть девятифунтовых. Можно установить одну тяжелую на вертлюге.
– Превосходно! Вы мне нравитесь, Рейд. Попомните: для смышленого парня я всегда найду дело. Если хорошо себя проявите, скоро сами будете капитаном.
* * *Нил лежал навзничь, разглядывая рябь солнечных зайчиков на отполированном потолке каюты; свет, рассеянный жалюзи, создавал впечатление подводного царства, куда раджу погрузили вместе с Элокеши. Иллюзию усиливало ее полуобнаженное тело, на котором солнечные пятна переливались и дрожали, будто речные струи.
Он любил эти перерывы в любовных утехах, когда подруга задремывала у него под боком. Даже во сне она казалась замершей в танце, словно ее пластический талант не ведал границ и равно проявлял себя в движении и покое, на сцене и в постели. Как исполнительница она славилась тем, что за ее ритмом не могли угнаться самые искусные барабанщики, и в постели ее импровизации так же изумляли, доставляя несказанное наслаждение. Бесподобная гибкость позволяла ей вытворять невиданные фортели: он ляжет сверху и приникнет к ее устам, она же так обовьет его ногами, что его голова окажется между ее ступней; или такое отчебучит: прогнется дугой, и раджа балансирует на упругом изгибе ее живота. Искусная танцовщица, она сама руководила соитием, отчего раджа лишь смутно чувствовал ритмические фигуры, управлявшие сменой темпа, и миг его извержения был абсолютно непредсказуем, но в то же время безоговорочно предрешен все ускоряющимся взлетом к вершине, где с последним тактом он застывал в неподвижности.
Еще больше раджа любил минуты после любовной баталии, когда в спутанном сари изнемогшая Элокеши замирала, словно только что исполнила головокружительный тихайи[36]. Неудержимый зов плоти никогда не оставлял времени, чтобы толком раздеться, а потому шесть ярдов его дхоти и девять ярдов ее сари переплетались замысловатее путаницы их конечностей, и только излившись, он мог насладиться колдовскими чарами ее медленно возникающей наготы. Как многие танцовщицы, Элокеши обладала приятным голосом; она мурлыкала изящную тумри[37], а Нил медленно распутывал ее одежды, постепенно открывая взгляду и губам крепкие лодыжки, на которых позвякивали серебряные браслеты, крутые бедра с литыми мышцами, пушистый холм лобка, нежный изгиб живота и полные груди. Избавившись от последнего лоскутка одежды, они пускались во вторую атаку, медленную и нескончаемо долгую.
Нынче раджа только начал извлекать Элокеши из кокона ее одеяний, как ему помешали: в коридоре второй раз за день некстати возникла перепалка – девичий заслон не пускал Паримала, желавшего сообщить новость.