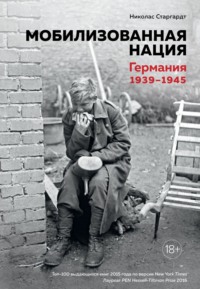
Мобилизованная нация. Германия 1939–1945
6
Orlowski and Schneider (eds.).‘Erschießen will ich nicht!’, 247: 18 Nov. 1943.
7
Ibid., 338: 17 Mar. 1945.
8
MadR, 5571, 5578–9 and 5583: 5 and 9 Aug. 1943; Stargardt, ‘Beyond “Consent” or “Terror”‘, 190–204.
9
Kershaw, ‘Hitler Myth’; Kershaw,Hitler, I–II; Wilhelm II, ‘An das deutsche Volk’, 6 Aug. 1914 // Der Krieg in amtlichen Depeschen 1914/1915, 17–18; Verhey, The Spirit of 1914; Reimann, Der grosse Krieg der Sprachen.
10
Наиболее важный вклад в эту интерпретацию в целом: Steinert,Hitlers Krieg und die Deutschen; Martin Broszat, ‘Einleitung’ // Broszat, Henke and Woller (eds.).Von Stalingrad zur Währungsreform; Joachim Szodrzynski, ‘Die „Heimatfront“‘ // Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg (ed.).Hamburg im ‘Dritten Reich 633–885; из последних работ, Schneider //der Kriegsgesellschaft, 802–834. По смертной казни, Evans,Rituals of Retribution, 689–696.
11
Kater,The Nazi Party; Benz (ed.).Wie wurde man Parteigenosse?; Nolzen, ‘Die NSDAP’, 99–111.
12
Peukert //side Nazi Germany; Gellately, Backing Hitler; Wachsmann, Hitler’s Prisons; Caplan and Wachsmann (eds.). Concentration Camps; Evans, The Third Reich in Power, chapter 1.
13
Отнем. Gau (область) и Leiter (руководитель); глава областной партийной организации в Третьем рейхе. – Здесь и далее, если не указано иное, прим. перев.
14
Oswald,Fußball-Volksgemeinschaft, 282–285; Havemann, Fußball unterm Hakenkreuz.
15
Sopade 3, 836: 3 July 1936; Schneider,Unterm Hakenkreuz.
16
Sontheimer,Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik; Wildt, ‘Volksgemeinschaft’ // Steber and Gotto (eds.). Visions of Community in Nazi Germany, 43–59; Schiller, Gelehrte Gegenwelten; Eckel, Hans Rothfels.
17
Ericksen, Theologians under Hitler; Hetzer, ‘Deutsche Stunde’; Stayer,Martin Luther; Schüssler, Paul Tillich.
18
Фрайкор (Freikorps – «свободный корпус») – наименование полувоенных патриотических формирований, существовавших в Германии и Австрии в XVIII–XX вв. –Прим. науч. ред.
19
Strobl,The Swastika and the Stage, 58–64, 104, 134–137.
20
Ibid., 187.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов