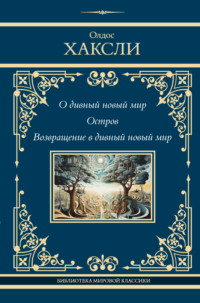
О дивный новый мир. Остров. Возвращение в дивный новый мир
Дикарь замолчал. Затем сказал упрямо:
– Все равно «Отелло» – хорошая вещь, «Отелло» лучше ощущальных фильмов.
– Разумеется, лучше, – согласился Главноуправитель. – Но эту цену нам приходится платить за стабильность. Пришлось выбирать между счастьем и тем, что называли когда-то высоким искусством. Мы пожертвовали высоким искусством. Взамен него у нас ощущалка и запаховый орган.
– Но в них нет и тени смысла.
– Зато в них масса приятных ощущений для публики.
– Но ведь это… «это бредовой рассказ кретина».
– Вы обижаете вашего друга, мистера Уотсона, – засмеявшись, сказал Мустафа. – Одного из самых выдающихся специалистов по инженерии чувств…
– Однако он прав, – сказал Гельмгольц хмуро. – Действительно, кретинизм. Пишем, а сказать-то нечего…
– Согласен, нечего. Но это требует колоссальной изобретательности. Вы делаете вещь из минимальнейшего количества стали – создаете художественные произведения почти что из одних голых ощущений.
Дикарь покачал головой:
– Мне все это кажется просто гадким.
– Ну разумеется. В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья. И разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность. А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком, нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет ореола гибельных сомнений и страстей. Счастье лишено грандиозных эффектов.
– Пусть так, – сказал Дикарь, помолчав. – Но неужели нельзя без этого ужаса – без близнецов? – Он провел рукой по глазам, как бы желая стереть из памяти эти ряды одинаковых карликов у сборочного конвейера, эти близнецовые толпы, растянувшиеся очередью у входа в Брентфордский моновокзал, эти человечьи личинки, кишащие у смертного одра Линды, эту атакующую его одноликую орду. Он взглянул на свою забинтованную руку и поежился. – Жуть какая!
– Зато польза какая! Вам, я вижу, не по вкусу наши группы Бокановского; но, уверяю вас, они – фундамент, на котором строится все остальное. Они – стабилизирующий гироскоп, который позволяет ракетоплану государства стремить свой полет, не сбиваясь с курса. – Главноуправительский бас волнительно вибрировал; жесты рук изображали ширь пространства и неудержимый лет ракетоплана; ораторское мастерство Мустафы Монда достигало почти уровня синтетических стандартов.
– А разве нельзя обойтись вовсе без них? – упорствовал Дикарь. – Ведь вы можете получать что угодно в ваших бутылях. Раз уж на то пошло, почему бы не выращивать всех плюс-плюс-альфами?
– Ну нет, нам еще жить не надоело, – отвечал Монд со смехом. – Наш девиз – счастье и стабильность. Общество же, целиком состоящее из альф, обязательно будет нестабильно и несчастливо. Вообразите вы себе завод, укомплектованный альфами, то есть индивидуумами разными и розными, обладающими хорошей наследственностью и по формовке своей способными – в определенных пределах – к свободному выбору и ответственным решениям. Вы только вообразите.
Дикарь попробовал вообразить, но без особого успеха.
– Это же абсурд. Человек, сформованный, воспитанный как альфа, сойдет с ума, если его поставить на работу эпсилон-полукретина, сойдет с ума или примется крушить и рушить все вокруг. Альфы могут быть вполне добротными членами общества, но при том лишь условии, что будут выполнять работу альф. Только от эпсилона можно требовать жертв, связанных с работой эпсилона, – по той простой причине, что для него это не жертвы, а линия наименьшего сопротивления, привычная жизненная колея, по которой он движется. По которой двигаться обречен всем своим формированием и воспитанием. Даже после раскупорки он продолжает жить в бутыли – в невидимой бутыли рефлексов, привитых эмбриону и ребенку. Конечно, и каждый из нас, – продолжал задумчиво Главноуправитель, – проводит жизнь свою в бутыли. Но если нам выпало быть альфами, то бутыли наши огромного размера сравнительно с бутылями низших каст. В бутылях поменьше объемом мы страдали бы мучительно. Нельзя разливать альфа-винозаменитель в эпсилон-мехи. Это ясно уже теоретически. Да и практикой доказано. Кипрский эксперимент дал убедительные результаты.
– А что это был за эксперимент? – спросил Дикарь.
– Можете назвать его экспериментом по винорозливу, – улыбнулся Мустафа Монд. – Начат он был в 473 году Эры Форда. По распоряжению Главноуправителей Мира остров Кипр был очищен от всех его тогдашних обитателей и заново заселен специально выращенной партией альф численностью в двадцать две тысячи. Им дана была вся необходимая сельскохозяйственная и промышленная техника и предоставлено самим вершить свои дела. Результат в точности совпал с теоретическими предсказаниями. Землю не обрабатывали как положено; на всех заводах бастовали; законы в грош не ставили, приказам не повиновались; все альфы, назначенные на определенный срок выполнять черные работы, интриговали и ловчили как могли, чтобы перевестись на должность почище, а все, кто сидел на чистой работе, вели встречные интриги, чтобы любым способом удержать ее за собой. Не прошло и шести лет, как разгорелась самая настоящая гражданская война. Когда из двадцати двух тысяч девятнадцать оказались перебиты, уцелевшие альфы обратились к Главноуправителям с единодушной просьбой снова взять в свои руки правление. Просьба была удовлетворена. Так пришел конец единственному в мировой истории обществу альф.
Дикарь тяжко вздохнул.
– Оптимальный состав народонаселения, – говорил далее Мустафа, – смоделирован нами с айсберга, у которого восемь девятых массы под водой, одна девятая над водой.
– А счастливы ли те, что под водой?
– Счастливее тех, что над водой. Счастливее, к примеру, ваших друзей, – кивнул Монд на Гельмгольца и Бернарда.
– Несмотря на свой отвратный труд?
– Отвратный? Им он вовсе не кажется таковым. Напротив, он приятен им. Он не тяжел, детски прост. Не перегружает ни головы, ни мышц. Семь с половиной часов умеренного, неизнурительного труда, а затем сома в таблетках, игры, беззапретное совокупление и ощущалки. Чего еще желать им? – вопросил Мустафа. – Ну правда, они могли бы желать сокращения рабочих часов. И разумеется, можно бы и сократить. В техническом аспекте проще простого было бы свести рабочий день для низших каст к трем-четырем часам. Но от этого стали бы они хоть сколько-нибудь счастливей? Отнюдь нет. Эксперимент с рабочими часами был проведен еще полтора с лишним века назад. Во всей Ирландии ввели четырехчасовой рабочий день. И что ж это дало в итоге? Непорядки и сильно возросшее потребление сомы – и больше ничего. Три с половиной лишних часа досуга не только не стали источником счастья, но даже пришлось людям глушить эту праздность сомой. Наше Бюро изобретений забито предложениями по экономии труда. Тысячами предложений! – Монд широко взмахнул рукой. – Почему же мы не проводим их в жизнь? Да для блага самих же рабочих; было бы попросту жестоко обрушивать на них добавочный досуг. То же и в сельском хозяйстве. Вообще можно было бы индустриально синтезировать все пищевые продукты до последнего кусочка, пожелай мы только. Но мы не желаем. Мы предпочитаем держать треть населения занятой в сельском хозяйстве. Ради их же блага – именно потому, что сельскохозяйственный процесс получения продуктов берет больше времени, чем индустриальный. Кроме того, нам надо заботиться о стабильности. Мы не хотим перемен. Всякая перемена – угроза для стабильности. И это вторая причина, по которой мы так скупо вводим в жизнь новые изобретения. Всякое чисто научное открытие является потенциально разрушительным; даже и науку приходится иногда рассматривать как возможного врага. Да, и науку тоже.
Науку?.. Дикарь сдвинул брови. Слово это он знает. Но не знает его точного значения. Старики индейцы о науке не упоминали, Шекспир о ней молчит, а из рассказов Линды возникало лишь самое смутное понятие: наука позволяет строить вертопланы, наука поднимает на смех индейские пляски, наука оберегает от морщин и сохраняет зубы. Напрягая мозг, Дикарь старался вникнуть в слова Главноуправителя.
– Да, – продолжал Мустафа Монд. – И это также входит в плату за стабильность. Не одно лишь искусство несовместимо со счастьем, но и наука. Опасная вещь наука; приходится держать ее на крепкой цепи и в наморднике.
– Как так? – удивился Гельмгольц. – Но ведь мы же вечно трубим: «Наука превыше всего». Это же избитая гипнопедическая истина.
– Внедряемая трижды в неделю, с тринадцати до семнадцати лет, – вставил Бернард.
– А вспомнить всю нашу институтскую пропаганду науки…
– Да, но какой науки? – возразил Мустафа насмешливо. – Вас не готовили в естествоиспытатели, и судить вы не можете. А я был неплохим физиком в свое время. Слишком даже неплохим; я сумел осознать, что вся наша наука – нечто вроде поваренной книги, причем правоверную теорию варки никому не позволено брать под сомнение, и к перечню кулинарных рецептов нельзя ничего добавлять иначе как по особому разрешению главного повара. Теперь я сам – главный повар. Но когда-то я был пытливым поваренком. Пытался варить по-своему. По неправоверному, недозволенному рецепту. Иначе говоря, попытался заниматься подлинной наукой. – Он замолчал.
– И чем же кончилось? – не удержался Гельмгольц от вопроса.
– Чуть ли не тем же, чем кончается у вас, молодые люди, – со вздохом ответил Главноуправитель. – Меня чуть было не сослали на остров.
Слова эти побудили Бернарда к действиям бурным и малопристойным.
– Меня сошлют на остров? – Он вскочил и подбежал к Главноуправителю, отчаянно жестикулируя. – Но за что же? Я ничего не сделал. Это все они. Клянусь, это они. – Он обвиняюще указал на Гельмгольца и Дикаря. – О, прошу вас, не отправляйте меня в Исландию. Я обещаю, что исправлюсь. Дайте мне только возможность. Прошу вас, дайте мне исправиться. – Из глаз его потекли слезы. – Ей-форду, это их вина, – зарыдал он. – О, только не в Исландию. О, пожалуйста, ваше фордейшество, пожалуйста… – И в припадке малодушия он бросился перед Мондом на колени. Тот пробовал поднять его, но Бернард продолжал валяться в ногах; молящие слова лились потоком. В конце концов Главноуправителю пришлось нажатием кнопки вызвать четвертого своего секретаря.
– Позовите трех служителей, – приказал Мустафа, – отведите его в спальную комнату. Дайте ему вдосталь подышать парами сомы, уложите в постель, и пусть проспится.
Четвертый секретарь вышел и вернулся с тремя близнецами-лакеями в зеленых ливреях. Кричащего, рыдающего Бернарда унесли.
– Можно подумать, его убивают, – сказал Главноуправитель, когда дверь за Бернардом закрылась. – Имей он хоть крупицу смысла, он бы понял, что наказание его является по существу наградой. Его ссылают на остров. То есть посылают туда, где он окажется в среде самых интересных мужчин и женщин на свете. Это все те, в ком почему-либо развилось самосознание до такой степени, что они стали непригодны к жизни в нашем обществе. Все те, кого не удовлетворяет правоверность, у кого есть свои, самостоятельные взгляды. Словом, все те, кто собой что-то представляет. Я почти завидую вам, мистер Уотсон.
Гельмгольц Уотсон рассмеялся.
– Тогда почему же вы сами не на острове? – спросил он.
– Потому что все-таки предпочел другое, – ответил Главноуправитель. – Мне предложили выбор – либо ссылка на остров, где я смог бы продолжать свои занятия чистой наукой, либо же служба при Совете Главноуправителей с перспективой занять впоследствии пост Главноуправителя. Я выбрал второе и простился с наукой. Временами я жалею об этом, – продолжал он, помолчав. – Счастье – хозяин суровый. Служить счастью, особенно счастью других, гораздо труднее, чем служить истине, – если ты не сформован так, чтобы служить слепо. – Он вздохнул, опять помолчал, затем заговорил уже бодрее: – Но долг есть долг. Он важней, чем собственные склонности. Меня влечет истина. Я люблю науку. Но истина грозна; наука опасна для общества. Столь же опасна, сколь была благотворна. Наука дала нам самое устойчивое равновесие во всей истории человечества. Китай по сравнению с нами был безнадежно неустойчив; даже первобытные матриархии были не стабильней нас. И это, повторяю, благодаря науке. Но мы не можем позволить, чтобы наука погубила свое же благое дело. Вот почему мы так строго ограничиваем размах научных исследований – вот почему я чуть не оказался на острове. Мы даем науке заниматься лишь самыми насущными, сиюминутными проблемами. Всем другим изысканиям неукоснительнейше ставятся препоны. А занятно бывает читать, – продолжал Мустафа после короткой паузы, – что писали во времена Господа нашего Форда о научном прогрессе. Тогда, видимо, воображали, что науке можно позволить развиваться бесконечно и невзирая ни на что. Знание считалось верховным благом, истина – высшей ценностью; все остальное – второстепенным, подчиненным. Правда, и в те времена взгляды начинали уже меняться. Сам Господь наш Форд сделал многое, чтобы перенести упор с истины и красоты на счастье и удобство. Такого сдвига требовали интересы массового производства. Всеобщее счастье способно безостановочно двигать машины; истина же и красота – не способны. Так что, разумеется, когда властью завладевали массы, верховной ценностью становилось всегда счастье, а не истина с красотой. Но несмотря на все это, научные исследования по-прежнему еще не ограничивались. Об истине и красоте продолжали толковать так, точно они оставались высшим благом. Это длилось вплоть до Девятилетней войны. Война-то заставила запеть по-другому. Какой смысл в истине, красоте или познании, когда кругом лопаются сибиреязвенные бомбы? После той войны и была впервые взята под контроль наука. Люди тогда готовы были даже свою жажду удовольствий обуздать. Все отдавали за тихую жизнь. С тех пор мы науку держим в шорах. Конечно, истина от этого страдает. Но счастье процветает. А даром ничто не дается. За счастье приходится платить. Вот вы и платите, мистер Уотсон, потому что слишком заинтересовались красотой. Я же слишком увлекся истиной и тоже поплатился.
– Но вы ведь не отправились на остров, – произнес молчаливо слушавший Дикарь.
Главноуправитель улыбнулся.
– В том и заключалась моя плата. В том, что я остался служить счастью. И не своему, а счастью других. Хорошо еще, – прибавил он после паузы, – что в мире столько островов. Не знаю, как бы мы обходились без них. Пришлось бы, вероятно, всех еретиков отправлять в умертвительную камеру. Кстати, мистер Уотсон, подойдет ли вам тропический климат? Например, Маркизские острова или Самоа? Или же дать вам атмосферу пожестче?
– Дайте мне климат крутой и скверный, – ответил Гельмгольц, вставая с кресла. – Я думаю, в суровом климате лучше будет писаться. Когда кругом ветра и штормы…
Монд одобрительно кивнул.
– Ваш подход мне нравится, мистер Уотсон. Весьма и весьма нравится – в такой же мере, в какой по долгу службы я обязан вас порицать. – Он снова улыбнулся. – Фолклендские острова вас устроят?
– Да, устроят, пожалуй, – ответил Гельмгольц. – А теперь, если позволите, я пойду к бедняге Бернарду, погляжу, как он там.
Глава 17
– Искусством пожертвовали, наукой – немалую вы цену заплатили за ваше счастье, – сказал Дикарь, когда они с Главноуправителем остались одни. – А может, еще чем пожертвовали?
– Ну, разумеется, религией, – ответил Мустафа. – Было некое понятие, именуемое Богом, – до Девятилетней войны. Но это понятие, я думаю, вам очень знакомо.
– Да… – начал Дикарь и замялся. Ему хотелось бы сказать про одиночество, про ночь, про плато месы в бледном лунном свете, про обрыв и прыжок в черную тень, про смерть. Хотелось, но слов не было. Даже у Шекспира слов таких нет.
Главноуправитель тем временем отошел в глубину кабинета, отпер большой сейф, встроенный в стену между стеллажами. Тяжелая дверца открылась.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Кающиеся (исп.). – Здесь и далее примеч. пер.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
