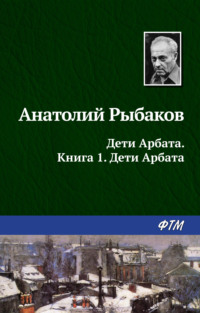
Дети Арбата
– Глинская способна что-то сделать? – усомнился Будягин.
– Не знаю. Но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить.
– Такое происходит сейчас не только с твоим племянником, – сказал Будягин.
Марк Александрович спустился в парикмахерскую, постригся и, чего никогда не делал здесь, побрился. И пожалел: парикмахер обрызгал его одеколоном, острый запах ему не понравился. С этим неприятным ощущением чужого, назойливо парфюмерного запаха он прошел в столовую для членов коллегии.
Буфетчица обернулась к нему:
– Товарищ Рязанов, вас просили зайти к товарищу Семушкину.
Он поднялся наверх. Анатолий Семушкин, секретарь Орджоникидзе, сухо с ним поздоровался, выражая недовольство тем, что в нужную минуту Марка Александровича не оказалось под рукой. Семушкин всем говорил «ты», никого не признавал, кроме Серго, и его побаивались не меньше, чем самого Серго. В гражданскую войну он был его адъютантом, с двадцать первого года – секретарем и в Закавказье, и в ЦКК-РКИ, и здесь, в Наркомтяжпроме.
С неподражаемо значительным и по-прежнему недовольным выражением лица Семушкин набрал номер…
– Товарищ Рязанов у телефона…
И передал трубку Марку Александровичу.
…В четыре часа его ждут в Кремле…
Марк Александрович догадывался, что за этим его и вызвали.
Но обратный билет ему уже вручили, и он решил, что встреча отменилась. А сейчас через сорок минут он будет у Сталина.
По другому аппарату Семушкин соединился с Бобринским химкомбинатом, там ответили, что Григорий Константинович уехал на площадку. Но Семушкин продолжал звонить, задерживал Марка Александровича, полагая, что лучше опоздать к Сталину, чем идти к нему, не получив указаний Орджоникидзе. Но Марк Александрович так не считал. Семушкин только вращался на высшем уровне, он же на этом уровне действовал. И секретарское рвение Семушкина не должно ему мешать.
Он был спокоен и невозмутим. Ему мешал только чужой, парикмахерский, запах. Нелепо явиться в Кремль к Сталину таким свеженьким. Он снова зашел в парикмахерскую, вымыл лицо и голову. Парикмахер, оставив сидевшего в кресле клиента, стоял перед ним с полотенцем в руках. Того благодушного Марка Александровича, который полчаса назад шутил с ним насчет лысеющих мужчин, уже не существовало. Властное лицо, особенно теперь, когда он снял очки, казалось беспощадным.
В Троицких воротах Марк Александрович протянул в окошко партийный билет. Окошко захлопнулось, потом снова открылось, за стеклом мелькнул силуэт военного, он наклонился, и только тогда Марк Александрович его разглядел.
– У вас есть оружие?
– Нет.
– Что в портфеле?
Марк Александрович поднял портфель, открыл.
Дежурный вернул ему партбилет с вложенным в него пропуском.
В дверях спецподъезда стояли два бойца с винтовками. Рассмотрев фотокарточку на партбилете, караульный скользнул по его лицу внимательно-казенным взглядом. Марк Александрович разделся в небольшом гардеробе и поднялся на третий этаж. У дверей кабинета человек в штатском опять проверил его документы.
В большой рабочей комнате сидел за столом Поскребышев. Марк Александрович увидел его впервые и подумал, какое у него грубое, неприятное лицо. Рязанов назвал себя.
Поскребышев провел его в следующую комнату-приемную, показал на диван, а сам вошел в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Потом вернулся.
– Товарищ Сталин ожидает вас.
Просторный кабинет Сталина был вытянут в длину. Слева висела на стене огромная карта СССР. Справа, между окнами, размещались шкафы с книгами, в ближнем углу стоял на подставке большой глобус, в дальнем углу – письменный стол, за ним кресло. Посредине комнаты – длинный стол под зеленым сукном и стулья.
Сталин прохаживался по кабинету и остановился, когда открылась дверь. На нем был френч из защитного, почти коричневого материала и такие же брюки, заправленные в сапоги. Он казался ниже среднего роста, плотный, рябоватый, со слегка монгольскими глазами. В густых волосах над низким лбом пробивалась седина. Сталин сделал несколько легких, пружинистых шагов навстречу Марку Александровичу и протянул ему руку – просто, корректно, но и сознавая значение этого рукопожатия. Потом отодвинул от стола два стула. Они сели. Марк Александрович совсем близко увидел глаза Сталина – светло-карие, живые, они показались ему даже веселыми.
Марк Александрович начал доклад с общего описания строительства. Сталин сразу перебил его:
– Товарищ Рязанов, не теряйте времени. Центральный Комитет и его секретарь знают, где строительство и для чего строительство.
Он говорил с сильным грузинским акцентом. И как убедился Марк Александрович, был хорошо осведомлен о ходе дела.
– Комсомольцы бегут?
– Да.
– Значит, мобилизовали, чтобы бежали! Сколько убежало?
– Восемьдесят два человека.
Взгляд Сталина был пронзительным, испытующим…
– Покажите справку!
Марк Александрович вынул из портфеля таблицу движения рабочей силы, показал нужную графу.
– Что же вы на себя клевещете, товарищ Рязанов?! Если бы с какого-нибудь завода убежали всего восемьдесят два человека, то директор завода чувствовал бы себя героем.
Он улыбнулся. Вокруг глаз резко обозначилась сетка морщин.
Марк Александрович пожаловался на завод, поставляющий оборудование. Сталин спросил, кто директор этого завода. Услышав фамилию, сказал:
– Неумный человек, все провалит.
Глаза его вдруг стали желтоватыми, тяжелыми, тигриными, в них мелькнула злоба к человеку, которого Марк Александрович знал как хорошего работника, попавшего в трудные условия.
Рязанов перешел к самому щекотливому вопросу – строительству второго мартеновского цеха.
– За год построите?
– Нет, товарищ Сталин.
– Почему?
– Я не технический авантюрист.
И тут же испугался того, что сказал. Сталин пристально смотрел на него. Опять глаза его сделались желтыми, тяжелыми, одна бровь стояла почти вертикально. Медленно, растягивая слова, он произнес:
– Значит, ЦК – технические авантюристы?
– Я не так выразился, извините. Я имел в виду следующее…
Марк Александрович подробно и убедительно доложил, почему вторую очередь мартеновского цеха нельзя закончить в будущем году. Сталин внимательно слушал, прижимая к груди левую руку с зажатой в кулаке трубкой, казалось, что рука плохо разгибается.
– Вы честно сказали. Нам не нужны коммунисты, которые обещают все, что угодно. Нам нужны те, кто говорит правду.
Сталин сказал это без улыбки, очень значительно, эти слова предназначались всей стране. Марк Александрович хотел продолжить доклад, но Сталин тронул его локоть:
– Я вас слушал, теперь вы меня послушайте.
Он заговорил о металлургии, о Востоке, о второй пятилетке, об обороне страны. Говорил медленно, четко, тихо, глуховатым голосом, отчетливо, будто диктовал машинистке, говорил вещи, всем известные, но сейчас, произносимые им, они казались новыми и особенно весомыми. Но о четвертой домне не упомянул, как бы не желая вызывать Рязанова на возражения, которые бы не принял и которые только бы повредили Рязанову.
– Вы когда уезжаете? – спросил Сталин, вставая.
– Сегодня. – Марк Александрович тоже встал.
– Отложите, если возможно, дня на два. Я думаю, товарищам будет интересно послушать вас на Политбюро.
Ощущение неудобства и тревоги, которые испытал Марк Александрович в разговоре со Сталиным, отступило, осталось только чувство того великого, к чему он прикоснулся. Беспримерное строительство, которое он вел, требовало железной воли. Не будь над ним железной воли Сталина, он не сумел бы проявить и свою. Эта воля была жесткой. Что делать?! Не милосердием совершаются исторические повороты.
В наркомате знали о разговоре Марка Александровича со Сталиным, и те, кому положено, уже готовили проект решения Политбюро. На вечер и на ночь остались все, кто мог понадобиться: сотрудники главка, машинистки, дежурная буфетчица. Члены коллегии, чья виза требуется на проекте решения, явятся в наркомат по первому звонку, и утром документы с нарочным будут доставлены в ЦК.
Никто не спрашивал Марка Александровича, что говорил Сталин. Пересказ может что-нибудь исказить. Сталин сам говорит народу то, что считает нужным. Марк Александрович называл сроки, объекты – это и было волей Сталина.
Главное то, что срок окончания строительства второго мартеновского цеха отложен на год. Это предвещало новый, реалистический, подход к составлению второго пятилетнего плана: металл – основа всего.
Будягин тоже занимался проектом решения, потом уехал, вернулся в восемь утра и молча завизировал его.
Дружба с Марком Александровичем давала Будягину право спросить о разговоре. Будягин не спросил. Марк Александрович угадывал в нем оппозицию к Сталину. Но не допускал мысли, что это оппозиция политическая. Скорее что-то личное, как бывает между бывшими друзьями, когда дружба кончилась. Может, обида, что отозвали из заграницы и назначили на должность хотя и высокую, но второстепенную, которая, возможно, станет ступенью к должности еще меньшей.
Приехал Орджоникидзе. Вот с кем Марк Александрович чувствовал себя легко. Орджоникидзе мог вспылить, гнев его казался страшным, но всем была известна его отходчивость и человечность. Ему Марк Александрович был обязан своим возвышением, его, директора небольшого южного завода, Серго выдвинул на нынешний высокий пост, сделал первым металлургом страны. Серго умел находить людей, защищал их, давал возможность работать.
Он сидел за громадным письменным столом, усталый человек с мясистым орлиным носом на отечном лице, с поседевшей шевелюрой, густыми, неровно свисающими усами. Верхняя пуговица кителя расстегнута, виднелась сиреневая рубашка, ее воротничок мягко облегал толстую шею. Окна кабинета выходили в узкий переулок, на маленькую старинную церквушку, каких много в старом московском посаде, ограниченном Яузой, Солянкой и Москвой-рекой, и была она, наверно, чем-то примечательна, если оставили ее тут стоять, не стерли с лица земли.
– Молодец!
Похвала относилась и к проекту решения Политбюро, и к тому, что Марк Александрович не растерялся перед Сталиным, понравился ему. Похвала относилась и к самому себе – подобрал хорошего человека и вообще умеет подбирать людей, на которых может положиться в сложных и ответственных ситуациях.
– Рассказывай!
Марк Александрович передал разговор. Орджоникидзе слушал его напряженно, точно пытаясь проникнуть в истинный смысл каждого сталинского слова.
Чем дальше отдалялась встреча Марка Александровича со Сталиным, тем величественнее она ему казалась. Такие встречи бывают раз в жизни. Главным было радостное чувство понимания великого человека, осенившего время своим гением.
– Я не технический авантюрист… Так и сказал? – смеясь, переспросил Орджоникидзе.
– Так и сказал.
– Значит, ЦК – технические авантюристы? – снова со смехом переспросил Орджоникидзе.
– Так и спросил.
Орджоникидзе многозначительно посмотрел на него своими большими, карими, навыкате глазами.
– В ЦК приедешь к десяти. Доклад пять минут, больше не дадут, учти. Не агитируй за Советскую власть, говори конкретно, что тебе нужно. На вопросы отвечай, реплики – проходи мимо. Не волнуйся, за твоей спиной я!
В комнате докладчиков стоял накрытый стол с большим кипящим самоваром, нарезанными лимонами, бутербродами, минеральной водой. Буфетчика и официантов не было. Вдоль стен у окон помещались рабочие столики – за ними можно готовить материал.
Вызова ожидали секретари обкомов, наркомы, их заместители и начальники главков, несколько военных, большая группа кавказцев.
Пожилая женщина-секретарь объявляла: «Товарищ такой-то… Пожалуйста, на заседание».
Если вызывались несколько человек, она говорила: «Товарищи из такой-то области» или «Товарищи из такого-то наркомата»…
Марка Александровича вызвали по фамилии.
Через комнату, где работали секретари, он прошел в зал заседаний, увидел ряды кресел и людей в креслах. За столом президиума стоял Молотов. Справа от него возвышалась кафедра, слева и чуть позади сидел референт и еще левее стенографистки.
– Товарищ докладчик, пожалуйста, сюда!
Молотов указал на кафедру. На внутренней стороне ее светилось табло «Докладчику пять минут». Против кафедры, над дверью, висели часы, черные с золотыми стрелками, похожие на кремлевские.
Сталин сидел в третьем ряду. Слева до конца ряда места пустовали, так что Сталин мог свободно выйти. Марк Александрович слышал о его привычке расхаживать по кабинету. Но, как и два дня назад, Сталин не вставал и не расхаживал.
Марк Александрович коротко прокомментировал проект решения. Он говорил лаконичным, почти техническим языком, убедительным для людей, привыкших к языку политическому. Подчеркнул досрочный пуск четвертой домны и только вскользь упомянул о задержке второй очереди мартеновского цеха. Второе было важнее первого. Но здесь сегодня важно подчеркнуть именно то, что подчеркнул Марк Александрович.
– Вопросы? – спросил Молотов.
Кто-то заметил, что в проекте решения, там, где говорилось о поставке леса, нет визы Наркомата лесной промышленности.
Марк Александрович не успел ответить. Вдруг наступила тишина, и в этой тишине Марк услышал голос Сталина:
– Пусть товарищ Рязанов едет на комбинат и дает металл. Было бы неправильно задерживать товарища Рязанова из-за бумажек.
Он говорил не только очень тихо, но отвернувшись в сторону, заставляя всех напрягаться, чтобы услышать его.
– Я думаю, мы сумеем получить визы и без товарища Рязанова. Решение продуманное, лишних запросов нету, и в наших силах помочь товарищу Рязанову выполнить задание партии.
Он замолчал так же неожиданно, как и начал.
Больше никто вопросов не задавал.
3
Респектабельный до революции, дом на Арбате оказался теперь самым заселенным – квартиры уплотнили. Но кое-кто сумел уберечься от этого – маленькая победа обывателя над новым строем. В числе победивших был и портной Шарок.
Мальчик в модной мастерской, закройщик, мастер и, наконец, муж единственной дочери хозяина – такова была карьера Шарока. Ее завершению помешала революция: ожидаемое наследство – мастерскую – национализировали. Шарок поступил на швейную фабрику и подрабатывал дома. Но попасть к нему удавалось только по надежной рекомендации – предосторожность человека, решившего никогда не встречаться с фининспектором.
Этот портной был еще статный, умеренно дородный, красиво стареющий мужчина с почтительно достойными манерами владельца дамского конфекциона. Шесть вечеров в неделю стоял он за столом с накинутым на шею сантиметром, наносил мелком линии кроя на материал, резал, шил, проглаживал швы утюгом. Зарабатывал деньги. Воскресенье проводил на ипподроме, его страстью был тотализатор.
Может быть, старый Шарок примирился бы с жизнью, если бы не вечный страх перед домоуправлением, соседями, всякими неожиданностями. Одной из них было осуждение старшего сына Владимира на восемь лет лагерей за ограбление ювелирного магазина. Он и раньше не слишком доверял этому вертлявому уродцу, похожему на мать и, следовательно, на обезьяну. Но довольствовался тем, что Владимир кончил поварскую школу при ресторане «Прага» и приносил домой зарплату. Конечно, сейчас повар не то, что раньше, какие теперь рестораны! Однако для физически слабого и неспособного к учению Владимира профессию выбрали удачно. Живя одним тотализатором, старик не придавал значения тому, что Владимир поигрывает в картишки. Но грабить?! Это не только по советским, это по любым законам – тюрьма.
Младший сын Шарока, Юрий, сдержанный, аккуратный подросток, лукавый и осторожный, выросший на арбатском дворе, вблизи Смоленского рынка и Проточных переулков, рассадников московского жулья и босячества, догадывался о воровской жизни брата, но дома ничего не рассказывал, законам улицы подчинялся с большей охотой, чем законам общества, в котором жил. Он не знал, в чем именно ущемила его революция, но с детства рос в сознании, что ущемила. Не представлял, как бы жилось ему при другом строе, но не сомневался, что лучше. Язвительное слово товарищи, ставшее обиходным в их семье для обозначения новых хозяев жизни, он переносил на школьных комсомольцев. Эти заносчивые активисты воображали, будто им принадлежит мир. Когда Саша Панкратов, тогда секретарь школьной комсомольской ячейки, выходил на трибуну и начинал рубать, Юра чувствовал себя беззащитным.
Он ненавидел политику, единственно приемлемой считал профессию инженера, она могла дать кое-какую независимость. Изменил эти планы случай, связанный опять же с арестом брата. Старик Шарок искал защитника, советовался с заказчиками, наконец нашел адвоката, который согласился вести процесс за пятьсот рублей. Сумма огромная, Шарок боялся ее вручать без свидетелей, взял с собой Юрия. Адвокат деньги пересчитывать не стал, открыл ящик стола, небрежно кинул туда пачку. На этом их визит и окончился, но Юрий успел разглядеть картины в золоченых рамах, золотые корешки книг за стеклами шкафов. Такой обстановки он еще не видел.
На улице старый Шарок завистливо вздохнул:
– Живут люди…
Но еще большее впечатление на Юру адвокат произвел в суде. Этот маленький человечек с помятым лицом и холеной бородкой вертел грозным пролетарским судом как хотел. Так, во всяком случае, казалось молодому Шароку. Адвокат сыпал статьями законов, прибегал к уловкам и ухищрениям, заставил вызвать новых свидетелей, назначить дополнительную экспертизу, язвительно препирался с судьей и прокурором. В руках у мрачного судьи и неумолимого прокурора был закон, но закон пугал их самих – открытие, определившее жизненные планы молодого Шарока. Путь к адвокатуре лежал через вуз, дорога в вуз – через комсомол и завод.
Так в девятом классе Юрий Шарок стал комсомольцем. Сын рабочего, а это высоко ценилось в школе, где учились дети арбатской интеллигенции, он держался независимо, девочки считали – загадочно. Особенно нравился он умным, серьезным, активным девочкам. Им казалось, что они воспитывают его, формируют личность. Для них, чистых, доверчивых, был очень привлекателен этот паренек: красивый и сдержанный.
Потом на заводе Шарок приобрел то, чего ему недоставало раньше, – уверенность. Рабочий! Синяя, всегда чистая спецовка хорошо сидела на его стройной фигуре. Появилась грубоватость, выдаваемая за принципиальность, презрение к сильно интеллигентным, принимаемое за рабочую простоту. Скромный и молчаливый в школе, здесь он часто выступал на собраниях, резонно считая, что умение говорить публично пригодится будущему адвокату.
В институте Шарок ничем не выделялся, однако зарекомендовал себя исполнительным общественником. Он и не хотел выделяться. Газеты были полны сообщениями о вредителях, саботажниках, уклонистах. «Вывести на чистую воду! Беспощадно карать! Мерзавцы! Уничтожить! Добить! Выкорчевать! Вытравить! Стереть с лица земли!» Читая эти слова, эти фразы, короткие и неумолимые, как выстрел, Шарок испытывал страх. Он все хорошо понимал и все трезво оценивал. После института его зашлют в область, в район, в народный суд или прокуратуру. Он и не посмеет заикнуться о том, что хочет стать адвокатом. «Увиливаешь, Шарок!» – вот что ему ответят. Неужели придется отказаться от цели, к которой он так настойчиво стремился?
Отец сшил Юре костюм. Последнего фасона «чарльстон» – длинные широкие брюки и короткий, обтягивающий бедра пиджак с высокими плечами и ватной грудью. Голубоглазый Юра выглядел в нем очень представительно. Отрез купили в торгсине на Тверской.
– В Арбатском торгсине соседи толкутся, разевают голодные пасти, – сказал отец, – скажут: у Шарока золото припрятано, в ложке воды утопят.
Как ни жалел старик золотого браслета и золотых запонок, понимал: чтобы устроиться в Москве на хорошее место, надо быть прилично одетым, отошли, слава Богу, кожаные куртки и косоворотки. При всем своем эгоистическом равнодушии к семье и детям только к младшему Шарок испытывал чувство, похожее на отцовское: видел в нем себя в молодости. А в том, чтобы Юрий остался в Москве, был заинтересован крайне: домоуправление и без того зарится на вторую комнату, выпишется Юрий – отнимут.
– Знакомства, знакомства надо искать, – поучал он Юру.
Однако ни на заводе, ни в институте Юрий не приобрел друзей. Приводить в дом товарищей запрещалось. Родственники были бедны, ничего, кроме обузы, в них не видели, к ним не ходили, у себя не принимали. Свободное время Шарок-отец проводил на бегах, мать – в церкви. На Пасху дети получали кусок кулича, на Масленицу блины – этим и ограничивались праздники. Старый Шарок в Бога не верил, не мог простить ему своего разорения. Еще меньше прощал он это Советской власти. Первого мая и Седьмого ноября работал, как в будни.
Связи со школьными товарищами оказались самыми устойчивыми. Три одноклассника жили с Юрой в одном доме. Саша Панкратов – секретарь комсомольской ячейки школы, Максим Костин – сын лифтерши, товарищи называли его Макс, Нина Иванова – сердобольная комсомолка, воспитывавшая и образовывавшая Шарока. Вместе с Леной Будягиной, дочерью известного дипломата, они составляли в школе сплоченную группу активистов. Собирались у Лены, в Пятом доме Советов. Будягин жил за границей, квартира была в распоряжении ребят. Юра появлялся там, смутно сознавая, что такие связи ему пригодятся. Сегодня это смутное сознание превратилось в реальную надежду. Будягин, отозванный из-за границы и назначенный заместителем наркома тяжелой промышленности, может ему помочь.
С Воздвиженки Юра свернул на улицу Грановского. Здесь, в Пятом доме Советов, здании, выложенном из серого гранита, обитали они. В садике, огороженном стрельчатой решеткой, играли их дети. С непроницаемым лицом Юрий ожидал в подъезде, пока старик швейцар звонил Будягиным по телефону. Потом поднялся на третий этаж и нажал кнопку звонка.
Дверь открыла Лена, как всегда, застенчиво улыбнулась ему. Высокий рост заставлял ее чуть наклонять голову с тяжелым клубком черных волос. На прекрасном, матовом, удлиненном лице несколько великоватым казался ярко-красный рот с чуть вывернутыми губами. У Ленки левантийский профиль, сказала как-то Нина. Что такое «левантийский», Юра не знал, но то, что Лена Будягина была самой красивой девочкой в школе, знал хорошо.
С грубоватой фамильярностью старого товарища Юрий притянул ее к себе. Она не отстранилась.
– Ребята пришли?
– Нет еще.
– Иван Григорьевич дома?
По коридору, пахнущему свеженатертыми полами, она провела его в кабинет отца.
– Папа, вот Юра к тебе.
И, пропуская Шарока, улыбнулась ему счастливой преданной улыбкой.
Узкая комната, полутемная от того, что выступ наружной стены наполовину закрывает окно. Книги, газеты, журналы, проспекты, русские и иностранные, лежат на столе, на этажерке, на стульях, на полу. Карта полушарий, испещренная пунктирными линиями пароходных сообщений, висит над кушеткой. Юра заметил черные цифры трехзначного номера на бюллетене – Будягин закрыл его и отложил в сторону: секретный документ, рассылаемый только членам ЦК и ЦКК. Юра отметил еще заграничную ручку «Паркер», сигареты «Тройка», ботинки на каучуке и пиджак особого покроя, какие шил дипломатам высшего ранга знаменитый Энтин.
– Слушаю, – сказал Будягин спокойно-деловым тоном: привык, что к нему обращаются с просьбами. На его сухощавом черноусом лице под густыми бровями глаза казались еще более глубокими, чем у Лены.
– Институт кончаю, Иван Григорьевич, совправа. А брат сидит…
Из коридора донесся звонок, шум открываемой двери.
– Суд, прокуратура – не пропустят, – продолжал Шарок, – остается хозяйственно-юридическая работа. Хотелось бы на предприятие. До института я работал на Фрунзенском заводе. Знаю людей, производство.
Будягин скользнул по Юрию отстраненным взглядом. Уверен в своем праве руководить другими. Что для него Юра и такие, как Юра? Они привыкли управлять массами, решать судьбы масс.
– Ты к Эгерту зайди. Я скажу ему.
– Спасибо, Иван Григорьевич.
– Брат за что?
– Уголовное. Мальчишка, связался с компанией…
– Старую юстицию мы разогнали, – сказал Будягин, – а новая малограмотна. Нужны образованные люди.
– Я понимаю, Иван Григорьевич, – охотно согласился Шарок, – но ведь не от меня зависит. Органы суда и прокуратуры, а тут брат…
– К Эгерту, к Эгерту зайди, – повторил Будягин, – я позвоню ему. Значит, в юрисконсулы.
Так и сказал – юрисконсулы. Царапнул по сердцу.
И все же цель достигнута. Результат – только он имеет значение. Вот как это делается! Одним трудно, другим все легко. Раньше легко было тем, кто имел деньги, теперь тем, у кого власть.
Кончено с институтом, со столовой, пропахшей кислой капустой, с ненавистными субботниками, нудными собраниями, вечными проработками, страхом сказать не то слово. Он даже ни разу не появился в институте в новом костюме, не хотел выделяться среди студентов, выклянчивающих в профкоме ордер на брюки из грубошерстного сукна.

