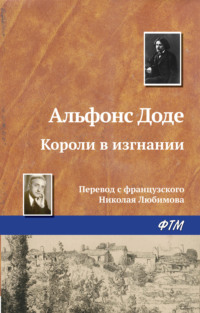
Короли в изгнании
– Ты не можешь себе представить, как хорошо идти без свиты, идти в толпе вместе со всеми, быть господином своих слов, своих движений, иметь право оглянуться на девушку, не боясь, что от этого Европа провалится… Вот в чем преимущество изгнания… Когда я приезжал сюда восемь лет назад, я видел Париж из окон Тюильри или из-за стекол роскошных карет… Теперь я хочу узнать все, побывать везде. А, черт! Что же это я?.. Иду себе, иду, – совсем забыл, что ведь ты же хромаешь, бедный мой Герберт!.. Погоди, мы сейчас возьмем фиакр.
Князь воспротивился: нога у него не болит, он отлично дойдет пешком. Христиан, однако, настаивал:
– Нет, нет, я не допущу, чтобы мой вожатый пал на ногу в первый же вечер.
К площади Согласия двигался извозчик, терзая слух скрипом ослабевших рессор и щелканьем бича, то и дело опускавшегося на костлявую спину лошади; Христиан ловко вскочил, расположился на сиденье, обтянутом старым синим сукном, и, радуясь, как ребенок, потер себе руки.
– Куда прикажете, государь мой? – осведомился извозчик, не подозревая, что нечаянно попал в точку.
На это ему бывший иллирийский король Христиан торжествующим тоном школьника, вырвавшегося на волю, ответил:
– В Мабиль!
II
Роялист
Два монаха, пояса и круглые капюшоны коих указывали на принадлежность к францисканскому ордену, с бритыми голыми головами, шли быстрым шагом вниз по гористой улице Мсье-ле-Пренс, под мелким, однако упорным декабрьским дождем, усеивавшим иглами коричневую шерсть их ряс. В перестраивающемся Латинском квартале, среди зияющих проломов, в которые вместе с пылью от сносимых зданий улетучивается своеобразие старого Парижа и даже самая память о нем, улица Мсье-ле-Пренс сохраняет свое обличье улицы школяров. Развалы букинистических книг чередуются здесь до самого холма Св. Женевьевы с молочными, закусочными, с лавками ветошников, с «покупкой и продажей золота и серебра», и в любое время дня меряют ее шагами студенты, но это уже не студенты Гаварни с длинными волосами, выбивающимися из-под шерстяных беретов, – это всё будущие адвокаты, запахнувшиеся в свои ульстеры, в перчатках, с громадными сафьяновыми портфелями под мышкой, вылощенные и выхоленные, уже с этих пор приучившие себя смотреть вокруг пронизывающим и холодным взглядом деловых людей, или же подающие надежды медики, несколько более развязные, у которых занятия практические, наблюдения над больными пробудили жажду чувственных наслаждений как противоядие от слишком близкого знакомства со смертью.
В этот ранний час девицы с припухшими от бессонных ночей глазами, с волосами, небрежно убранными в сетку, в капотах и ночных туфлях перебегали улицу, чтобы купить себе на завтрак молока: одни – хохоча и подпрыгивая под дождем с крупой, другие – напротив, с большим достоинством покачивая жестяными бидонами и с величавым бесстрастием сказочных королев щеголяя в обносках и в опорках. А так как, несмотря на ульстеры и сафьяновые портфели, в двадцать лет сердца у всех одинаковые, то студенты улыбались красоткам:
– А, это ты, Леа?
– Здравствуй, Клеманс!
Переговаривались через улицу, назначали вечером свидания в кафе «Медичи» или же «Людовик XIII». Но в ответ на какую-нибудь любезность, слишком вольную или же превратно истолкованную, озадаченная девица неожиданно изливала свой гнев, причем всегда в одних и тех же выражениях:
– Пошел прочь, нахал!
Казалось бы, два чернеца должны были ежиться при столкновении с молодежью, которая оборачивалась и, посмеиваясь, глядела им вслед, – впрочем, посмеиваясь украдкой, ибо у одного из францисканцев, худого, черного и сухого, точно стручок, из-под кустистых бровей глядели страшные, как у пирата, глаза, а его ряса, которую пояс стягивал до того, что на ней вздулись широкие складки, обрисовывала могучую спину атлета. Однако ни он, ни его спутник не замечали того, что делается на улице, – отряхая с себя его суету, они шли уторопленным шагом, глядя перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом, и помышляли, видимо, только о цели своего путешествия. Не доходя до широкой лестницы, спускающейся к Медицинскому институту, старший сделал другому знак:
– Здесь.
Это были дешевые «меблированные комнаты», куда вела зеленая калитка с колокольчиком, зажатая между газетным киоском, пестревшим брошюрами, нотами песенок по два су, цветными картинками, на которых нелепая шляпа Базиля принимала самые разнообразные положения, и пивной в подвальном этаже, носившей обозначенное на вывеске название «Пивная Риальто», вернее всего, потому, что прислуживавшие там девушки носили венецианские наколки.
– Господин Элизе не отлучился? – проходя на второй этаж мимо конторы, спросил один из святых отцов.
Толстая женщина, которая, должно быть, вдоволь намыкалась по чужим меблирашкам, прежде чем открыть свои собственные, лениво ответила, не вставая со стула и даже не поглядев на унылую шеренгу ключей, висевших в ящике:
– Отлучился, этакую рань!.. Вы бы лучше спросили, давно ли он возвратился!..
Но тут взгляд ее скользнул по грубошерстным рясам, и она сразу переменила тон. В крайнем замешательстве она принялась объяснять, как найти Элизе Меро:
– Шестой этаж, в конце коридора, тридцать шестой номер.
Францисканцы долго поднимались, блуждали по узким коридорам, заваленным грязными башмаками и туфлями на высоких каблуках, то серыми, то коричневыми, то какого-то немыслимого фасона, то нарядными, то нищенскими, – по ним можно было составить себе полное представление о нраве того или иного жильца и жилицы. Но монахи, задевая обувь грубыми подолами ряс и крестами длинных четок, не обращали на нее внимания и слегка оторопели лишь при встрече с хорошенькой девушкой в красной нижней юбке и мужском пальто внакидку, с голой шеей и голыми руками; перегнувшись через перила на площадке четвертого этажа, она что-то крикнула коридорному хриплым голосом, с хриплым смехом излетавшим из ее в высшей степени вульгарного рта. Монахи многозначительно переглянулись.
– Если он правда таков, как вы о нем говорите, то странную же выбрал он себе компанию, – прошептал корсар, выговор которого обличал в нем иностранца.
Другой, постарше, с умным и тонким лицом, улыбнулся вкрадчивой, лукаво-снисходительной улыбкой священнослужителя.
– Апостол Павел среди язычников! – прошептал он в ответ.
На шестом этаже монахи снова пришли в недоумение: под низким и темным-претемным сводчатым потолком едва можно было различить номера и карточки, оповещавшие только о том, что здесь, мол, проживает некая «мадемуазель Алиса», без указания профессии – указания, впрочем, совершенно лишнего, так как жилицы этих меблированных комнат занимались одним и тем же ремеслом. Теперь войдите в положение честных отцов: хоть стучись наудачу к любой из них!
– Ах, будь он неладен, надо его окликнуть! – сказал чернобровый монах и тут же на весь дом по-военному зычным голосом выкрикнул имя «господина Меро». В ответ из комнаты в глубине коридора послышался не менее мощный и не менее раскатистый бас. Когда монахи отворили дверь, тот же голос радостно приветствовал их:
– А, это вы, отец Мельхиор!.. Мне не везет!.. Я думал, это денежное письмо… Входите же, входите, ваши преподобия, гостями будете!.. Присаживайтесь, если только найдете куда.
В самом деле: все сиденья были погребены под грудами книг, газет и журналов, принаряжавших и прикрывавших убогую обстановку меблирашек восемнадцатого разряда с их облезлым полом, продавленным диваном, неизбежным письменным столом стиля ампир и тремя стульями, бархат на которых давно порыжел. На кровати, на сбившемся тонком коричневом одеяле вперемешку с оттисками и кипами корректур, которые постоялец, еще лежа в постели, все исчеркал красным карандашом, валялось платье. Этот жалкий рабочий кабинет с нетопленым камином, с пыльной наготою стен освещался отблеском хмурого неба на мокрой черепице соседних крыш. Отсвет, падавший на высокий лоб, на широкое нервное лицо хозяина, подчеркивал его умное и печальное выражение – лица с таким выражением можно встретить только в Париже.
– Как видите, отец Мельхиор, я все в своей конуре!.. Ничего не поделаешь! Я поселился здесь восемнадцать лет тому назад, как только приехал в Париж. С тех пор я отсюда никуда… Сколько замыслов, сколько надежд погребено в каждом углу этой комнаты!.. Сколько идей!.. Я вновь обнаруживаю их под густым слоем пыли… Я убежден, что, если когда-нибудь мне придется покинуть эту каморку, лучшее, что есть во мне, будет по-прежнему жить здесь… Ведь я даже оставил ее за собой, когда уезжал туда…
– Да, кстати, что же ваше путешествие? – спросил о. Мельхиор, чуть заметно подмигнув своему спутнику. – Я думал, вы туда надолго… Что случилось? Должность не подошла?
– Ну нет! Что касается должности, то лучшего и желать нельзя, – тряхнув гривой, ответил Меро. – Жалованье полномочного посла, комната во дворце, лошади, экипажи, слуги… Все были со мной очень милы: император, императрица, великие князья… А все-таки я скучал. Мне не хватало Парижа, особенно Латинского квартала, воздуха, которым здесь дышишь, – легкого, звонкого, молодого… Не хватало галереи Одеона, только что вышедшей книги, которую бегло перелистываешь стоя… Охоты за редкими книгами, наваленными вдоль набережных в виде крепостного вала, защищающего учащийся Париж от суетности и эгоизма другого Парижа… Но это еще не все, – тут в голосе Меро зазвучала суровая нотка, – вам известны мои воззрения, отец Мельхиор. Вы знаете, на что я рассчитывал, поступая на службу. Я хотел сделать из этого маленького существа короля, настоящего короля, каких теперь уже нет; хотел воспитать, вылепить, вычеканить из него человека, который был бы достоин своего великого назначения, а то ведь оно чаще всего оказывается не по силам властителю, оно подавляет его, подобно средневековым доспехам в старинных оружейных палатах, где они служат безмолвным укором нашему узкоплечему и узкогрудому поколению… И что же вы думаете, милейший? Кого я нашел при дворе***?.. Либералов, реформаторов, поборников прогресса и новых идей… отвратительных буржуа, не понимающих, что раз монархия обречена на гибель, то пусть лучше она погибнет сражаясь, накрытая своим знаменем, чем испустит дух на кресле для недвижимых, которое катит парламент… После первого же моего урока во дворце завопили: «Откуда он взялся? Что здесь нужно этому варвару?» Всячески подслащивая пилюлю, меня попросили придерживаться основ педагогики… Репетитор, знай свое место!.. Как только я в этом убедился, так сейчас же за шляпу: «Прощайте, ваши величества!..»
Он говорил это во весь свой мощный голос, по металлическим струнам которого ударял его южный выговор, и лицо его преображалось на глазах. Голова, в состоянии покоя казавшаяся огромной и уродливой, высокий выпуклый лоб, неукротимый беспорядок курчавых волос, черноту которых оттеняла широкая седая прядь, толстый нос с горбинкой, резко очерченный рот без малейшего намека на растительность вокруг, ибо на коже у Меро, как на вулканической почве, были выжжены пространства, трещины, бесплодные пустыни, – все это чудом оживлял порыв страсти. Представьте себе разрыв покрова; внезапно отдернутую черную занавеску, за которой весело и жарко пылает огонь в очаге; вспышку красноречия, загорающегося сперва в углах глаз, в крыльях носа, в углах рта, а затем растекающегося вместе с кровью, которая вдруг прихлынет от сердца к лицу, поблекшему от постоянного душевного напряжения и от бессонных ночей. Так на земле Лангедока, родины Меро, на земле голой, неплодородной, того серого цвета, какой принимают запыленные маслины, при многоцветном закате беспощадного южного солнца пленяют взор дивные пылания с волшебно набегающей на них тенью, – это как бы угасание солнечного луча, медленное и постепенное умирание радуги.
– Так, значит, вам опротивела пышность? – спросил старый монах, глухой и вкрадчивый голос которого являл собою полнейшую противоположность громогласию Меро.
– Да!.. – твердо заявил тот.
– Однако король королю рознь… Я знаю такого, которому ваши идеи…
– Нет, нет, отец Мельхиор… Все кончено. Я не желаю вторично проделывать опыт… А то как бы мне от близкого соприкосновения с коронованными особами не растерять всей своей верноподданности…
После некоторого молчания находчивый инок переменил разговор, а затем вернулся к этой теме, но уже другим путем:
– Ваша полугодовая отлучка, верно, недешево вам обошлась, Меро?
– Нет, ничего… Во-первых, мне не изменил дядюшка Совадон… Вы его знаете: богач из Берси… Он бывает у своей племянницы княгини Розен, а там всегда много народу, ему хочется принять участие в общем разговоре, и он попросил меня три раза в неделю снабжать его, как он выражается, «взглядами на вещи». Он славный малый, он поистине очарователен в своем простодушии и доверчивости: «Господин Меро! Что я должен думать вот об этой книге?» – «Что это дрянь». – «А мне показалось… я слышал на днях разговор у княгини…» – «Если у вас есть на этот счет мнение, то мне нечего больше у вас делать». – «Что вы, что вы, мой друг!.. Вы прекрасно знаете, что мнения-то как раз у меня и нет…» В самом деле, мнения у него ни о чем нет никакого; что бы я ему ни внушал, он все принимает на веру… Я – его мыслительный аппарат… Пока я был в отъезде, он молчал – за отсутствием идей… А когда я вернулся, как же он на меня набросился!.. Еще есть у меня два валаха – им я даю уроки государственного права… Потом у меня всегда кое-что в работе… Скоро, например, я выпущу «Мемориал об осаде Дубровника на основании подлинных документов»… Собственно, моего там почти ничего нет… за исключением последней главы, которой я в общем доволен… У меня есть корректурные листы. Хотите, прочту?.. Я назвал эту главу «Европа без королей»!
Пока он, все более и более воодушевляясь, волнуясь до слез, читал свой роялистский трактат, пробуждение меблированных комнат ознаменовывалось молодым смехом, весельем тайных встреч, и этот смех и веселье сливались со стуком тарелок и звоном стаканов, с деревянным звуком старого расстроенного фортепьяно, на котором играли какую-то кабацкую песенку. Этот разительный контраст францисканцы почти не улавливали – они упивались могучим, безудержным славословием единовластию; особенно высокий: он весь дрожал, притопывал ногами и подавлял в себе изъявления восторга, с такой силой сдавливая руками грудь, точно хотел сломать себе грудную клетку. Когда чтение кончилось, он поднялся и зашагал по комнате, и тут напор слов и движений прорвал наконец плотину:
– Да, да, вот именно… Совершенно верно… Право божественное, законное, неограниченное (он выговаривал: «бозественное», «неограниценное»)… Долой парламенты!.. Долой адвокатов!.. Сжечь всю эту клику!
И глаза его метали искры и горели, точно костры Санта Эрмандад. О. Мельхиор в более спокойных выражениях хвалил автора.
– Надеюсь, на этой книге вы поставите свое имя?
– Нет, и на этот раз не поставлю… Вы прекрасно знаете, отец Мельхиор, что мои идеи мне дороже славы… За книгу мне заплатят: дядюшка Совадон нежданно-негаданно дал мне возможность заработать, но я с не меньшим удовольствием написал бы ее и даром. Это моя отрада – составлять летопись последних дней королевской власти, прислушиваться к слабеющему дыханию старого мира, который сражается и умирает вместе с гибнущей монархией… По крайней мере вот король, который всем подал пример, как можно и в падении не утратить величия… Христиан – герой… В этом дневнике есть рассказ о том, как он под бомбами совершал прогулку в форт Святого Ангела… Вот это, я понимаю, смелость!..
Один из отцов опустил глаза. Он лучше, чем кто-либо, знал цену этому проявлению героизма и этой еще более героической выдумке… Но что-то сильнее его самого заставляло его молчать. Он только сделал знак своему спутнику – тот встал и, обратившись к Меро, неожиданно заявил:
– Ну так вот, ради сына этого героя я и пришел к вам… вместе с отцом Алфеем, капелланом иллирийского двора… Не хотите ли заняться воспитанием наследника?
– Там вас не ожидают ни дворец, ни роскошные кареты… ни царские милости двора***, – с печальным видом продолжал о. Алфей. – Вы будете служить у низложенных государей, их изгнание длится уже более года и грозит продлиться еще, и оттого все вокруг них полно уныния и одиночества… но зато вы найдете в нас единомышленников… У короля появились было либеральные замашки, но после своего несчастья он понял, что заблуждался. Ну, а королева… королева – существо необыкновенное… Вы ее увидите.
– Когда? – спросил фанатик, вновь загоревшись несбыточной мечтой создать проникнутого его идеями короля, как писатель создает художественное произведение.
И они тут же условились о встрече.
Когда Элизе Меро вспоминал свое детство, – а вспоминал он его часто, так как все самые сильные впечатления он получил именно тогда, – ему неизменно представлялось вот что: большая комната в три окна на солнечную сторону; у окон жаккардовы ткацкие станы; в их сплетенных крест-накрест и прикрепленных к высоким стержням ячейках, как сквозь подвижные шторы, мелькает сияющая даль, а вдали – беспорядочное нагромождение крыш, дома, один за другим ползущие на гору, во всех решительно окнах такие же точно станки, и у каждого станка сидят двое в одних жилетках и, точно играющие в четыре руки пианисты, сообразуют свои движения над утком. Меж домов не проулки – меж домов лепятся по косогорам садики, южные садики, чахлые, высохшие, душные, изобилующие маслоносными растениями, тыквами с ползущими стеблями и высокими подсолнухами, тянущимися к свету, поворачивающими свои широко раскрытые венчики вслед за солнцем и полнящими воздух приторным запахом спеющих семян – тем запахом, который и по прошествии тридцати лет Элизе все еще ощущал при воспоминании о родной окраине. Над этим рабочим кварталом, тесным и жужжащим, как пчельник, высился каменистый холм, а на холме заброшенные ветряные мельницы, в прошлом – кормилицы города, не снесенные лишь во внимание к их многолетней службе и постепенно разрушавшиеся под действием ветра, солнца и едкой южной пыли, вздымали остовы крыльев, похожие на огромные сломанные реи. Древние мельницы блюли старинные нравы и предания. Весь этот пригород, именуемый Королевским заповедником, с давних пор населяли, да населяют и теперь, ярые роялисты. В каждой мастерской висел на стене в рамке портрет во вкусе сороковых годов; на портрете был изображен белокурый, румяный, пухлый человек с длинными подвитыми, напомаженными волосами, на локоны которого были искусно положены световые пятна, – жители предместья называли его просто Хромой. У отца Элизе над этим портретом висела другая рамка, поменьше, в которой на голубом листе писчей бумаги выделялась большая красная сургучная печать в виде креста Андрея Первозванного с надписью вокруг креста, состоявшей из двух слов: Fides, spes. Мастеру Меро, следившему за челноком, виден был портрет, и, когда он читал слова девиза: «Вера, надежда», его широкое скульптурное лицо, напоминавшее старинную, вычеканенную еще при Антонинах медаль, лицо, которому орлиный нос и округлые линии придавали сходство со столь дорогими его сердцу Бурбонами, от сильного волнения надувалось и багровело.
В голосе у мастера Меро, привыкшего покрывать грохот батанов, слышались удары и раскаты грома. Его жена представляла собой полную ему противоположность: робкая, незаметная, с молоком матери всосавшая такую покорность, которая превращает южанок старого закала в настоящих восточных рабынь, она взяла себе за правило упорно молчать. Вот в какой среде вырос Меро, хотя, впрочем, его держали не в такой строгости, как братьев, потому что он был последний и самый слабый. Вместо того чтобы с восьми лет засадить его за станок, ему предоставили некоторую свободу – а как эта милая свобода необходима детям! – и он целыми днями носился по Заповеднику или играл в войну на холме, где стояли ветряные мельницы, – войну белых с красными, католиков с гугенотами. Кстати сказать, вражда между ними все еще не утихает в этой части Лангедока! Дети делились на два лагеря, каждый лагерь выбирал себе мельницу, ее осыпавшиеся камни служили детям снарядами. Начиналось со взаимных оскорблений, потом свистели пращи и завязывалась многочасовая гомерическая битва, оканчивавшаяся неизменно трагически: кровоточащей ссадиной на лбу у какого-нибудь десятилетнего мальчугана или же одной из тех ранок в шелковистой путанице волос, от которых на нежной детской коже остаются отметины на всю жизнь, как остались они у Элизе на виске и в углу рта.
Ох уж эти ветряные мельницы! Мать проклинала их от всего сердца, когда ее малыш под вечер возвращался домой – весь в крови и в изодранной одежде. Отец бранился только для вида, по привычке, чтобы в голосе у него не ржавел металл, а за столом заставлял сына подробно излагать весь ход сражения и называть фамилии участников.
– Толозан!.. Толозан!.. Стало быть, этот род еще не вымер!.. Ах негодяй! В тысяча восемьсот пятнадцатом году я взял его отца на мушку. Жаль, что не ухлопал.
За этим следовала длинная история на образном и грубом лангедокском наречии, не пощадившем ни одного французского слова, ни единого слога, действие же ее происходило в те времена, когда он, Меро, вступил в войска герцога Ангулемского, знаменитого полководца, святого человека…
Эти рассказы, которые отец разнообразил по вдохновению, Элизе слышал сто раз, и они оставили в его душе не менее глубокий след, чем камни с мельниц на его лице. Он жил роялистскими преданиями, а в преданиях день св. Генриха и 21 января числились поминальными днями; он с малолетства привык чтить государей-мучеников – словно облеченные епископской властью, они благословляли перед смертью народ; чтить бесстрашных государынь – ради победы правого дела они вскакивали на коней, за ними гнались, их предавали и в конце концов обнаруживали под закоптелой вьюшкой камина на каком-нибудь старом бретонском постоялом дворе. А чтобы несколько рассеять мрак, сгущавшийся в голове у мальчика от бесконечных повестей о бедствиях и изгнаниях, к воспоминаниям о славных днях старой Франции и об ее удальцах прибавлялись изречение о курице в горшке у каждого крестьянина и песня «Про Волокиту». О, то была «Марсельеза» Королевского заповедника! По воскресеньям, после вечерни, с большим трудом установив стол на склоне садика, семейство Меро обедало, как там говорят, «на вольном воздухе», в удушливой предзакатной атмосфере, когда от нагретой земли, от раскаленных стен пышет еще более сильным, еще более душным жаром, чем от палящего солнца, и старый житель окраины запевал своим знаменитым на весь околоток голосом:
Да здравствует Генрих Четвертый,Да здравствует храбрый король!.. –а весь Королевский заповедник тогда притихал. Слышны были только сухой треск лопавшихся от жары стеблей тростника, составлявшего живую изгородь сада, запоздалый стрекот кузнечика, да еще слышно было, как величаво плыла старинная роялистская песня, и в напеве ее звучал ритм паваны, приспособленный к неповоротливости штанов с буфами и юбок с фижмами.
Припев пели хором:
За здоровье короля все мы пьем!С чистопробным Генрихом мы свое возьмем.Он заботится о благе и твоем и моем.Это «и твоем и моем», четко ритмизованное, фугированное, очень забавляло Элизе и его братьев: они это пели, толкаясь, пихаясь, за что неизменно получали от отца оплеуху, но песня из-за такой безделицы не прерывалась, – она лилась и среди колотушек, всхлипываний и смеха, как духовный гимн одержимых на могиле дьякона Париса.
Слово «король» было окружено особым ореолом не только в волшебных сказках и в «Истории для детей», оно не сходило с уст в доме Меро на каждом семейном празднике, – вот почему Элизе ощущал между королем и собой некую родственную близость. Чувство близости еще усиливали таинственные письма на тонкой бумаге, приходившие к обитателям Заповедника из Фросдорфа два-три раза в год: в письмах этих король просил свой народ запастись терпением… В такие дни мастер Меро с особой торжественностью пускал в ход свой челнок, а вечером, плотно затворив двери, принимался за чтение послания, представлявшего собой очередное слащавое воззвание, составленное в выражениях неясных, как надежда: «Французы! Они сами заблуждаются и вводят в заблуждение вас…» И все та же неизменная печать: Fides, spes. Бедняги! Чего-чего, а веры и надежды у них было вполне достаточно.
– Когда король вернется, я куплю себе хорошее кресло, – говорил мастер Меро. – Когда король вернется, мы переменим обои.
Позднее, после путешествия во Фросдорф, этот привычный оборот речи был заменен другим.
– Когда я имел честь видеть короля… – кстати и некстати говорил старик.
Этот чудак в самом деле совершил паломничество, потратив и время, и деньги, – а для простого рабочего то была жертва немалая, – и никогда ни один хаджи, вернувшись из Мекки, не пребывал в таком упоении, как он. Между тем свидание продолжалось недолго. Претендент сказал явившимся к нему верноподданным:
– А, это вы!..