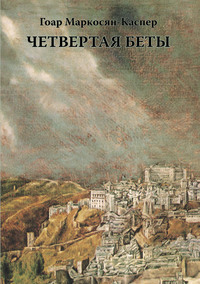
Четвертая Беты
– Что, нравится? – спросил Поэт, улыбаясь.
Дан хотел было кратко ответить «да», но не выдержал и неожиданно для самого себя принялся объяснять Поэту, как это гениально. Поэт и Дор переглянулись и невесело рассмеялись.
– Что тут смешного? – проворчал Дан, хмуро уставившись на Поэта.
– Увы, ничего, – вздохнул тот. – Я рад, что ты оценил эту книгу. Но постарайся не заговаривать о ее достоинствах с незнакомыми людьми.
– Что такое? – спросил Дан растерянно.
– Видишь ли… Объясни им, Дор. Ты… Тебе проще. – Поэт снял с плеча ситу, сел на тахту и стал пощипывать струны.
Дор на минуту задумался, потом сказал:
– Ладно. Ты правильно понял, Дан, эта книга бесспорно лучшее творение бакнианской литературы. Но ее автор выступил против Перелома. Не сразу. Когда-то он сам был членом Лиги и убежденным сторонником Рона Льва…
– Да, – буркнул Поэт, оттягивая струну, ответившую ему протяжным стоном. – В те времена, когда сборища Лиги были собраниями честных людей и больше философскими дискуссиями, нежели дружными воплями толпы убийц…
– Однако, когда события приобрели тот ход, который… – Дор запнулся, и Поэт меланхолически закончил за него:
– Который приобрели.
Дор кивнул.
– …он призадумался… Видишь ли, он был убежденным пацифистом. Он решил, что Перелом сопровождается большой кровью, что никакая цель, какой бы великой она не представлялась, не оправдывает жертв, которые были принесены и продолжали приноситься… Словом, он вышел из Лиги и стал бороться против нее. Бороться – это, конечно, громко сказано, он ведь был против кровопролития и насилия, он только говорил, выступал, призывал… правда, при его таланте писателя и оратора, я не говорю о его авторитете, это производило впечатление… – Он умолк.
– И чем это кончилось? – спросил Дан, уже догадываясь, какой услышит ответ.
– При Роне Льве его не трогали. Просто замалчивали. А при Изии объявили вне закона. И приговорили к изгнанию. Тогда он пришел на площадь Расти… это центральная площадь Бакны…
– Была, – с горечью поправил его Поэт.
– Была, – послушно повторил Дор. – Он пришел на площадь Расти и выстрелил себе в висок. И после этого…
– После этого, – подхватил Поэт, откладывая ситу, – объявили вне закона все, что он создал, и само его имя. Но уничтожить то, что он написал, оказалось невозможно, его книги и, особенно, эта… – он с неожиданной нежностью провел рукой по обложке лежавшего рядом с ним на грубом одеяле толстого тома, – были везде, в каждом доме. Потребовали сдать их – никто не сдал. Им удалось изъять только то, что было в библиотеках и лавках, но это ведь лишь малая часть. Они вычеркнули его имя из всех справочников и энциклопедий, запретили его произносить… ну и что? Изий добился своего и не добился, Вен Лес исчез, но появился Мастер – так его называли ученики, когда он был жив, теперь его так называют миллионы бакнов… появился Мастер, и неизвестно, кто пострадал, ведь людей с именами много, а Мастер – один…
– Как и Поэт, – усмехнулся Дан.
Поэт улыбнулся.
– Хочешь упрекнуть меня в нескромности? Дор подтвердит – не я первый стал называть себя Поэтом. Кстати, я пришел пригласить вас в Старый Зал. Я пою там сегодня. Пойдете? Или Ника не в настроении?
Дан оглянулся на Нику, с удивлением отметив ее побледневшее лицо и потерянный вид… У нее как будто даже слезы на глазах!..
– Что с тобой? – спросил он тревожно. – Что-нибудь случилось?
– Боже мой, – сказала Ника. – Боже мой, Дан, какой ты все-таки иногда… толстокожий…
Она резко повернулась и выбежала из комнаты.
Старый Зал оказался огромной каменной чашей. Кривизна чаши была гиперболической, и снаружи ее обвивало множество лестниц, заканчивавшихся арками изысканно неправильных очертаний. Сверху чашу накрывала плоская крышка все из того же стекла, по периметру вырезанная вытянутыми, как у ромашки, лепестками, просветы между которыми служили входами, виднелись и другие, казалось, произвольно разбросанные на разных уровнях проемы. Внутри чаша была полна, в ней, тесно прижавшись друг к другу, сидели несколько тысяч человек – всех возрастов, всех человеческих типов. Ни одного свободного места. Сидели и на лестницах, вначале Дану даже показалось, что в зале нет проходов, потом, присмотревшись, он понял, что от сцены – небольшой круглой площадки в центре, так сказать, на донышке чаши, радиально во все стороны идут лестницы, плавно поднимающиеся до самого верха, до вырезов в крыше. Кое-где от главных лестниц ответвлялись более узкие, заканчивавшиеся у замеченных им ранее проемов и отсекавшие от общей массы сидений небольшие, причудливой формы островки.
Поэт попросил сидевших у входа на средний ярус потесниться, те подвинулись, Дан и Ника с трудом втиснулись с краю, Дор примостился рядом выше. Все было обставлено чрезвычайно просто. Усадив своих гостей, Поэт посмотрел на часы и стал пробираться вниз по лестнице. Спускался он медленно, без всякой торжественности, останавливался поздороваться со знакомыми, извиниться перед теми, кто вставал, чтобы дать ему пройти. Добравшись до сцены, он вышел на ее середину, поднял руку, и в тот же миг в зале воцарилась абсолютная тишина. Тогда он снял с плеча ситу и запел. Начал он с юмористической песенки о некоем любителе тийну, который спьяну забрел в чужую квартиру к чужой жене и наутро объясняется со своей. Смешная перебранка между супругами на первый взгляд не содержала никакого подтекста. Муж доказывал жене, что в их Доме одинаковые подъезды, одинаковые квартиры, стены, мебель, на грозный вопрос супруги относительно нее самой он ответил тирадой о прелестях новой униформы, жена ядовито поинтересовалась той минутой, когда униформа была сброшена, и муж с готовностью объяснил ей, что вечером в кабачке слышал о новом указе – всех постричь, покрасить, подравнять, всех унифицировать… Голос у Поэта был сильный, скорее мужественный, нежели красивый, пел он подряд, без передышки, сам объявлял очередную песню, иногда сопровождая ее комментариями, чаще краткими, изредка пространными. Песни оказались удивительно мелодичными, тексты относительно несложными, он явно придавал больше значения не форме, а содержанию, весьма рискованному, надо сказать, даже после столь недолгого пребывания в Бакне Дан уже это понимал. Большинство песен было хорошо знакомо аудитории, названия встречались бурными аплодисментами, удивительно, но аплодисменты бытовали и здесь. Поэт отвечал на них легким, без подобострастия, кивком головы, не прерывал их, а, отрешенно перебирая струны, ждал тишины. Время от времени он откладывал ситу на маленький стульчик, стоявший на сцене, и читал стихи. Стихи у него были какие-то другие, насыщенные сложными метафорами – Дану не всегда удавалось уловить оттенки, ритмы рваные, судорожные. Между тем, стало темнеть. Искусственного освещения в зале, видимо, не предусматривалось, во всяком случае, не было ни ламп, ни прожекторов. Наконец сумерки сменились полной темнотой, Дан ожидал, что концерт на этом закончится, и вдруг в зале снова стало светло. Он огляделся. Тысячи узких лучей пронизывали мрак, отражались от странного, отнюдь не похожего на зеркальное, стекла над залом и, сходясь, освещали пространство в центре сцены, где стоял Поэт. Присмотревшись, Дан понял, что лучи эти идут от карманных фонариков, которые, как по команде, вытащили и включили тысячи людей. Поэт продолжал петь, словно не заметив перемены. Последняя песня оказалась той самой, строку из которой намертво запомнил Дан. «И дома умирают, как люди». Допев, Поэт резко опустил ситу и сказал:
– Эту песню я посвящаю памяти великого Расти. Мир земле, в которой он покоится.
Он склонил голову и коснулся правой рукой левого плеча, и тысячи человек единым движением встали, повторяя вслед за ним его жест. Прошла минута. Поэт опустил руку, выпрямился и негромко сказал:
– Спасибо вам.
Зал ответил ему взрывом аплодисментов. Аплодировали стоя, подняв руки над головой, фонарики все поставили на пол, зрелище получилось феерическое – множество темных фигур, подсвеченных снизу, словно стоящих в огне, и одинокий силуэт в столбе света, падающего сверху. Поэт был неподвижен. Это могло бы длиться бесконечно, но ему словно надоело, он поднял руку, сказал в разом наступившую тишину: «Спасибо», подхватил свою ситу и шагнул со сцены в расступившуюся перед ним толпу. Прошел быстрым шагом сквозь коридор аплодирующих людей и исчез в одном из нижних проемов.
Когда Дан, Ника и Дор вышли на одну из наружных лестниц, они увидели в тусклом свете редких лампочек огромную толпу.
– Что они тут делают? – удивилась Ника.
– Слушают, – объяснил Дор. – Зал слишком мал, туда попала лишь часть желающих.
– Неужели тут слышно?
– Да. Конечно, не так, как в зале, но слышно. Почти на пятьсот шагов. Это единственный такой зал в Бакнии, его строил тоже старый Расти. В те времена искусство поэтов не имело соперников, театр, музыка, лишенная слов, были еще малоизвестны, и на концерты поэтов собиралось невиданное количество слушателей.
– Так у вас все поэты поют? – поразилась Ника. – Но Поэт тоже иногда просто читал стихи.
– Это новые веяния. Совсем новые, их существование измеряется жизнью одного-двух поколений.
Они были еще высоко над землей, когда на нижней лестнице появился Поэт, и вся округа взорвалась аплодисментами. Когда же он спустился вниз, к нему подошла девушка в светлом платье и протянула длинную гибкую ветку с темными листьями, покрытую мелкими белыми цветами. За ней еще и еще, когда Дан с Никой и Дором пробрались к нему, в руках его была уже целая охапка, увидев их, он обрадованно улыбнулся и отдал цветы Нике. Лицо у него было усталое и счастливое. Когда он протянул букет Нике, Дан внутренне напрягся… и вдруг вспомнил, что за два часа Поэт не прочел и не спел ни одной строчки о любви. Его песни были о чем угодно – о деревенском учителе, о покалеченном солдате, о войне, о дружбе, о тоске, о скитаниях, о разобщенности, о единстве – о чем угодно, только не о любви. И странно успокоенный этим Дан даже не отреагировал на вопрос «тебе понравилось?», адресованный Нике – не им, а ей одной…
Ника не успела ответить.
– Ты был неподражаем. – Твердый насмешливый голос прозвучал за спиной Поэта. Тот стремительно обернулся.
– Маран!
– Да, дорогой друг.
– Ты был в зале?
– А ты на это не рассчитывал?
Поэт пожал плечами.
– Я не выбирал слушателей. Я пою для всех.
– Очень благородно с твоей стороны. Если б ты еще испрашивал разрешение государства выступать в зале, который ему принадлежит…
– Мне помнится, совсем недавно Изий заявил во время какой-то речи, что государству не нужно подобное старье, государству нужен гигантский земельный участок, который занят под эту, видите ли, рухлядь…
– Это еще не значит, что ты можешь использовать зал для собственных нужд.
– Каких собственных нужд, гражданин начальник спецотдела? Останови любого и спроси… впрочем, ты это и так прекрасно знаешь… Никто из тех, кто пришел сюда сегодня, вообще никто из тех, кто когда-либо приходил на мои вечера, не платил ни монетки. Я пою бесплатно.
– Это мне известно. Я не об этом.
– О чем же?
– О политических демонстрациях.
– Ты имеешь в виду мою песню памяти Расти?
– Разве ты знаешь за собой только это?
– Я не знаю за собой ничего, противоречащего чести и совести.
– Я тебя предупредил, Поэт.
– Благодарю за предупредительность, Маран.
– Ладно… – Маран вдруг изменил тон. – Все это частности. У меня есть предложение – посидеть за чашкой тийну.
– С тобой?
– Да, со мной. Или вы боитесь? Вы же видите, я один.
– Кто тебя знает, один ты или?.. – пробормотал Дор.
– Даю слово.
– Слово Марана?
– Слово Марана не хуже любого другого. Что, Поэт, не так?
– Возможно, так, – медленно сказал тот, – а возможно, и не так. Прошло слишком много лет с тех пор, когда я поручился бы за крепость твоего слова, Маран.
– Не веришь слову, так поверь здравому смыслу. Разве ты собираешься прятаться? Разве я не смогу найти тебя, где б ты ни спрятался, приди тебе такая фантазия в голову? Разве я не могу разыскать любого из вас в отдельности или всех вместе в ту минуту, когда мне это понадобится?
– Идем, – решительно сказал Поэт. – Идем.
– Это еще что за водичка! – сказал Маран, пренебрежительно отодвинув в сторону посудину с таной. – Выпьем лучше по чашечке тийну.
– А закон? – полюбопытствовал Поэт.
– Закон?.. Эй, приятель, дай нам несколько пустых чашек! Шевелись! – Маран вытащил из заднего кармана поношенных брюк плоскую флягу, отвинтил колпачок, налил темной, остро пахнущей тийну в четыре чашки, вопросительно посмотрел на Нику – та отрицательно качнула головой, снова завинтил колпачок и демонстративно положил флягу на стол. – Неужели тебя беспокоят подобные пустяки? По-моему, в своде нет ни одного закона, который бы ты не нарушил.
– Ошибаешься, – насмешливо сощурился Поэт. – Я никого не убил, не ограбил, не изнасиловал.
– Верно. Но ты вполне можешь кончить, как убийца.
– Могу. Как убийца, либо как Мастер или… Рон Лев.
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Маран после еле заметной паузы. – Рон Лев умер от рук убийц.
– Так и я могу умереть от рук убийц, это ведь не исключено.
– Ты играешь с огнем, Поэт.
– Не будь банальным, Маран, тебе это не идет.
– Неужели ты не понимаешь, что государство может раздавить тебя одним щелчком?
– Почему же оно этого не делает?
– Потому что мы росли с тобой вместе. Потому что ты дрался рядом со мной, когда соседские мальчишки обзывали меня гнусными словами только из-за того, что мой отец повесился, оставшись без работы. Потому что меня кормили, поили и одевали твои родители. Потому что мы бегали вдвоем со своими детскими стишками к Вену Лесу, который тогда еще не был Мастером…
– Он был Мастером всегда.
– Да, он был Мастером всегда, но тогда у него было еще и имя…
– Верно, тогда у него было имя, но скажи, Маран, когда хоронили его уже ставшее безымянным тело, где был ты? Я-то знаю, где был я. Я стоял у гроба, потом у могилы, потом плакал у дверей его дома, а вот где был ты, Маран?
– Мы воевали за идеи Перелома с оружием в руках, а Мастер…
– Не напускай тумана, Маран, ты не на трибуне. Конечно же, ты великий воитель… вроде твоего приятеля Изия!.. но уж в тот-то день я, к счастью, был рядом с тобой. – Он поставил чашку и повернулся к Дану и Нике. – Мы выпустили десяток пуль в стены Крепости и, клянусь, могли бы палить по ним до скончания века, если б несколько доблестных гвардейцев не открыли нам ворота. – Это «доблестных» прозвучало в его исполнении, как ругательство. – Когда мы ворвались в Крепость, оказалось, что нас тысяч пять-шесть, а защитников ее две-три сотни, и то, большинство бросило оружие сразу, отстреливалось каких-нибудь пятьдесят-шестьдесят человек на подступах к Центральному зданию, половина их была убита на месте, а остальные сдались через пару минут, после того, как покончил с собой император. Знаете, как это было? Он вышел на балкон, приблизился к перилам и сказал: «Не стреляйте друг в друга, вот кровь, которой вы жаждали»… И представьте себе, все замерли, ни одного выстрела! Тогда он улыбнулся, мол, ладно, я вам помогу, и выстрелил себе в сердце.
– Что тебе очень понравилось, – сказал Маран без вызова, просто констатируя факт.
– Да. Это была красивая смерть. Не знаю, как он жил, но умер он красиво. И что удивительно, тысячи человек ворвались туда, чтобы расправиться с ним, и ни один не посмел… Впрочем, я полагаю, что, очухавшись, его пристрелили бы доблестные гвардейцы, деваться-то им было уже некуда…
– Интересно, за что ты взъелся на гвардейцев? Если б не они, мы бы действительно палили в стены до скончания века.
– Я не люблю предателей, Маран. Ни в своем стане, ни в чужом.
– Однако тогда ты смотрел на вещи иначе и о гвардейцах, помнится, отозвался не столь сурово.
– Я был молод и глуп. Но мы отвлеклись. Так вот, Мастер выступал не против идей, а против крови и насилия. И уж кто-кто, а ты прекрасно знаешь, что он был человеком благородным и чистым, может быть, самым благородным и чистым человеком в нашей стране. И не пришел ты его хоронить, потому что боялся за свою репутацию. Или хуже того, карьеру. Вот тогда и разошлись наши пути, Маран.
– Я выбрал путь, по которому меня вели совесть и долг.
– Может быть. Но самый прекрасный путь не стоит того, чтобы ступить на него, перешагнув через тело своего учителя. И уж во всяком случае, построив карьеру на предательстве, нельзя при этом еще и претендовать на незапятнанность мундира.
– Ладно, – сказал Маран с усилием. – Допустим, ты прав.
– Допустим?
– Прав! Признаю. Но это единственное, что ты можешь вменить мне в вину.
– Да?
Маран налил себе тийну, выпил залпом и со стуком поставил чашку на стол.
– Факты! Давай факты.
– Факты? Сколько угодно. Да вот только что! Тебе не понравилось, что я почтил память Расти…
– Я этого не говорил.
– Не говорил, да… Ладно, оставим это. Факт первый – Великий План.
– Автор Плана не я, а Изий.
– Понимаю. Ты решил прибегнуть к испытанному приему – «Изий думает за нас, Изий решает за нас, Изий в ответе за все». Но этот номер не пройдет. Разве ты протестовал против плана? И не ври, я все равно не поверю, если б ты осмелился выступить против Изия, ты сидел бы сейчас не здесь, а…
– А я и не говорю, что выступал против.
– Стало быть одно из двух: либо ты был против Плана, но голосовал за, что беспринципно, либо ты искренне считаешь, что План хорош.
– Насчет голосования ты… – начал Маран и осекся. – А что ты, собственно, имеешь против Плана? Разве дать приличное жилье тысячам и тысячам людей, доныне прозябавших в трущобах, не благородная цель?
– Разве для этого необходимо уничтожать то, что создавалось столетиями, труд и мечту тоже тысяч и тысяч людей?
– А что ты предлагаешь делать со всеми этими дворцами? Поселить там кого-нибудь? И тем самым создать заново ту аристократию, ради избавления от которой столько народу, и ты в том числе, шло на штурм Крепости, с автоматами, да, но без пушек? Оставить их пустовать? Так и так они бесполезны.
– Красота не бывает бесполезной.
– Красота не самоцель, – сказал Маран. Дану в его интонациях послышалась ирония, но к чему она относилась, он не понял.
– Эх, Маран, неужели это с тобой я ходил к Мастеру?.. Ладно, оставим дворцы. Есть что-то поважнее.
– Что?
– Не знаешь? Люди, Маран, люди. Скажи, сколько человек ты сам, лично, арестовал за те десять лет, что работаешь в Охране?
– Не знаю. Не считал.
– Ну да, кто же считает ягоды, которые срывает с ветки и бросает в рот, – пробормотал Поэт саркастически. – Ягоды, семечки, людишки… Слишком мелко. Или слишком обыденно, ведь не единицы и даже не сотни, тысячи людей отправлены в небытие! И во имя чего?
– Для блага государства, – буркнул Маран.
– Полно! Какое благо принесли государству арест и казнь поэта Лина, актера Сан Река, скульптора Стена? Что дали ему закрытие Инженерного Училища или разгон Школы Архитекторов?
– Архитекторы устроили обструкцию Великому Плану, – сказал Маран нехотя. – А Лин написал гимн на на смерть Изия… Сам отлично знаешь!..
– Ну и что?
Маран вздохнул.
– Поэт, не будь ребенком! Мы вынуждены поддерживать авторитет Изия, ибо это синоним авторитета власти. Ты сам только что вспоминал, как никто не решился поднять руку на императора – их удержала не красота минуты, не заблуждайся, их удержала извечная привычка склоняться перед властью. Люди в подавляющем своем большинстве по натуре рабы, им проще и понятнее оставаться таковыми, они предпочитают, чтобы им приказывали, и они делают все, что им прикажут. Но при одном условии: они должны верить в право власти отдавать приказы, а для этого авторитет ее должен быть непререкаемым. Лига взялась воссоздать наше полуразвалившееся государство, сделать его сильным и богатым, дать народу пищу, одежду, жилье. Разве такая цель не стоит того, чтобы ради ее достижения чем-то и пожертвовать?
– Чем-то? Или кем-то?
– Иногда и кем-то.
– Нет! Нет, будь я проклят! Я не признаю такой цели, которая заставляет убивать лучших людей – умных, талантливых, честных. Никакое могучее государство, никакие великие свершения не заменят мне лично одного мизинца погубленного вами Вениты, не возместят ни одного мазка на его сожженных вами полотнах… О Создатель! Схватить Вениту, бросить в тюрьму, из которой не выходят, фактически убить! Предать огню “Апофеоз”! – Он несколько картинно воздел руки к небу, и Дан подумал, что в его поведении, вообще в этом диалоге есть элемент игры на публику. Впрочем, кажется, такова бакнианская манера, чрезмерная пафосность, даже театральность…
Маран сделал движение, словно хотел что-то сказать, но огляделся вокруг и промолчал. Поэт смотрел на него испытующе.
– Что же ты молчишь? Продолжай отстаивать своего Изия!
– Он не мой, – возразил Маран сухо. – Я люблю его не больше, чем ты.
– Однако служишь ему.
– Не ему.
– Уж не идее ли? Нет, дорогой друг, ты служишь именно Изию. Ты такой же раб, как те, кого ты помогаешь держать в рабском состоянии. А я не раб, понимаешь ты, не раб, и делать из себя раба не позволю.
– Никто не делает из тебя раба. Ты свободен, живешь, где хочешь, ездишь, куда хочешь, зарабатываешь на жизнь, как хочешь…
– Но мне нужно другое. Я должен думать, что хочу, говорить, что думаю, петь, где хочу и о чем хочу.
– Потому-то ты и опасен для государства.
– Тогда арестуй меня. Отдай под суд, казни, наконец. Или ты боишься, что это не сойдет вам с рук, я слишком известен?
– Ты переоцениваешь себя. Да, тебя знают и любят, но кто ты по сравнению с Изием, Лигой и Бакнией? Так что прежде чем говорить, что думаешь, и петь, где и о чем хочешь, давай себе иногда труд представить возможные последствия.
– Не то мой товарищ по детским играм и юношеским подвигам принесет меня в жертву своим идеалам… возможно, даже оплачет меня и, облегчив душу, запретит мои стихи и песни.
– Можешь думать обо мне все, что тебе угодно, но только наше прошлое… Нет, не только прошлое, признаюсь, Поэт, я люблю твои песни, более того, я люблю тебя самого и до сих пор заслонял тебя от Изия и прочих. Но может настать день…
– …когда ты отойдешь в сторону и предоставишь меня моей судьбе.
– Не обязательно. Меня могут просто отодвинуть. Я не всесилен.
– И когда же этот день настанет? Или он уже настал?
– Еще нет. Но это мое предупреждение может оказаться последним. Прощай, Поэт.
– Прощай, Маран.
– Да, позволь мне сказать пару слов наедине твоему другу.
Он кивнул Дану.
– Можно тебя на минуту?
– Конечно, – ответил удивленный Дан.
Они вышли на пустую улицу. На небе сияли две полные луны, было необычайно светло, улица просматривалась на всю длину, и Дан внимательно оглядел ее.
– Ищешь моих людей? – догадался Маран. – Не трудись. Я же сказал, что пришел один. Я знал, где вы прячетесь, уже через несколько часов после вашего побега, так что… сам понимаешь. Арестовывать вас я не собираюсь, напротив, у меня есть к тебе предложение.
Дан сделал нетерпеливый жест.
– Погоди отказываться. Сначала выслушай меня.
– Ну?
– Меня не интересует, кто ты и откуда. Меня не интересует, как ты попал в компанию Поэта и что ты в ней делаешь. Меня не интересует твоя жена или подружка – не знаю, кто она тебе. А интересует меня одно: прием, которым ты уложил двух моих парней.
– Нет.
– Что – нет?
– Я не могу обучить тебя или кого бы то ни было этим приемам.
– Не можешь или не хочешь?
– Не могу. Те, кто владеет этой борьбой, объединены… как бы это?
– В лигу, что ли?
– Вроде того. Вступая в нее, каждый дает клятву не обучать этому искусству никого без разрешения остальных. Так что не могу. Да и не хочу, если говорить откровенно.
– Жаль.
– Что, хочешь меня заставить?
– Заставить? Нет. Уговорить – пожалуй.
Дан насмешливо улыбнулся.
– А ты не улыбайся. Как ты думаешь, зачем мне это нужно?
– Невелика хитрость.
– И все-таки?
– Издеваешься? Ладно. Естественно, для того, чтобы твоих парней никто не мог одолеть.
– Моих парней и так никто не может одолеть. Они вооружены автоматами, а гражданским лицам ношение оружия запрещено.
Дан был озадачен.
– А зачем тогда?
– А вот как раз затем. Чтоб они меньше пользовались автоматами. У вооруженного человека искаженное видение действительности. При малейшем сопротивлении, при первом неосторожном движении они пускают автоматы в ход. А потом поди докопайся, что там было и как. Вот если б они умели драться, как ты, я приказал бы забрать у них оружие. А ты сразу – нет.
Дан промолчал.
– Я тебя не тороплю. Подумай. И если надумаешь, приходи в Крепость. Скажешь на входе, что я тебя жду, и тебя проведут ко мне.

