Изготовление шара – каменного внутри, а снаружи обложенного восемью медными листами и позолоченного, – тоже заворожило Леонардо и пробудило в нем интерес к оптике и к геометрии лучей света. В те времена не существовало сварочных горелок, поэтому треугольные листы меди приходилось припаивать друг к другу при помощи вогнутых зеркал. Эти зеркала, шириной около метра, собирали солнечный свет в малое пятно, которое становилось источником сильного жара. Чтобы точно вычислить угол падения лучей и шлифовкой придать зеркалу нужную кривизну, нужно было хорошо разбираться в геометрии. Леонардо увлекся “огненными зеркалами”, как он их называл (и порой это увлечение граничило с наваждением); за многие годы он сделал в записных книжках чуть ли не двести рисунков, показывавших, как изготовлять вогнутые зеркала для фокусировки лучей света, которые будут падать под разными углами. Спустя почти сорок лет, трудясь в Риме над огромными вогнутыми зеркалами, которые могли бы превратить солнечные лучи в оружие, он записал в блокноте: “Помнишь, как паяли по частям шар для Санта-Мария-дель-Фьоре?”[76 - Pedretti, Commentary 1:20; Pedretti, The Machines, 18; Paris Ms. G, 84v; Codex Atl., fols. 17v, 879r, 1103v; Sven Duprе, “Optic, Picture and Evidence: Leonardo’s Drawings of Mirrors and Machinery”, Early Science and Medicine 10.2 (2005), 211.]
А еще на Леонардо повлиял главный торговый конкурент Верроккьо во Флоренции – Антонио дель Поллайоло. Еще смелее, чем Верроккьо, Поллайоло экспериментировал с изображением движущихся и перекрученных тел, а кроме того, он производил поверхностные рассечения человеческого тела, чтобы лучше изучить его устройство. По словам Вазари, “он снимал кожу со многих людей, чтобы под ней разглядеть их анатомию, и был первым, показавшим, как нужно находить мускулы, чтобы определить их форму и расположение в человеческой фигуре”, а потому “обнаженные тела он понимает более по-новому, чем другие мастера”. В гравюре “Битва десяти обнаженных”, а также в скульптуре “Геракл и Антей” и картине с тем же названием Поллайоло искусно и реалистично изобразил перекрученные тела бойцов, силящихся заколоть или побороть друг друга. И в гримасах, искажающих лица, и в перекрученных руках и ногах чувствуется прекрасное знание анатомии[77 - Bernard Berenson, The Florentine Painters of the Renaissance (Putnum, 1909), section 8.].
___
Отец Леонардо со временем оценил по достоинству (а однажды даже обратил себе на пользу) пылкое воображение сына и его способность объединять искусство с чудесами природы. Однажды крестьянин, работавший в Винчи, сделал небольшой деревянный щит и попросил Пьеро отвезти его во Флоренцию и там расписать. Пьеро поручил эту задачу сыну, и Леонардо решил изобразить на щите некое чудовище наподобие дракона – огнедышащее и выдыхающее ядовитые пары. Чтобы изображение получилось натуралистичным, он насобирал настоящих ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков и летучих мышей и из их частей составил единое чудище. “Леонардо был так поглощен своей работой, что, несмотря на чрезвычайно жестокое зловоние издыхающих животных, он ничего этого не чувствовал из великой любви к искусству”, – пишет Вазари. Когда Пьеро наконец явился за щитом, то вначале отшатнулся в страхе, приняв при слабом освещении нарисованное чудовище за настоящее. Пьеро решил оставить этот щит себе, а крестьянину купить другой, попроще. “Вслед за тем Пьеро тайно продал этот щит во Флоренцию каким-то купцам за сто дукатов, а через короткое время щит попал в руки герцога Миланского, перепроданный ему купцами за триста дукатов”.
Этот щит – вероятно, первое произведение Леонардо, о котором что-либо известно, – выявил не покидавший его всю жизнь талант объединять фантазию с наблюдениями. Позднее, в заметках для задуманного трактата о живописи, он напишет: “Итак, если ты хочешь заставить казаться естественным вымышленное животное – пусть это будет, скажем, змея, – то возьми для ее головы голову овчарки или легавой собаки, присоедини к ней кошачьи глаза, уши филина, нос борзой, брови льва, виски старого петуха и шею водяной черепахи”[78 - Leonardo Treatise/Rigaud, 353; Codex Ash. 1:6b; Notebooks/ J. P. Richter, 585.].
Драпировки, кьяроскуро и сфумато
Одним из упражнений в мастерской Верроккьо было срисовывание драпировок. Как правило, такие наброски делали, легко нанося кистью на льняное полотно черную и белую краски. По рассказу Вазари, иногда Леонардо “делал модели из глины, и на эти модели он набрасывал мягкие, пропитанные гипсом, тряпки, потом терпеливо срисовывал их на тонкое или старое полотно и обрабатывал посредством кисти черной и белой краской, что давало удивительный эффект”. Складки и изгибы ткани получались мягкими, будто бархатистыми, передавая ощущение от падающего света, тени разной густоты и иногда даже иллюзию блеска (илл. 4).
4. Эскиз драпировок из мастерской Верроккьо, приписываемый Леонардо, ок. 1470 г.
Некоторые эскизы драпировок из мастерской Верроккьо, по-видимому, являлись подготовительными набросками для будущих картин. Другие, возможно, были просто ученическими упражнениями. Эти рисунки породили целую бурную отрасль исследований, в которых разные ученые пытаются установить, какие именно работы принадлежат Леонардо, а какие выполнены, скорее всего, Верроккьо, Гирландайо или другими художниками их круга[79 - Brown, 82; Carmen Bambach, “Leonardo and Drapery Studies on «Tela sottilissima di lino»”, Apollo, January 1, 2004; Jean K. Cadogan, “Linen Drapery Studies by Verrocchio, Leonardo and Ghirlandaio”, Zeitschrift f?r Kunstgeschichte 46 (1983), 27–62; Francesca Fiorani, “The Genealogy of Leonardo’s Shadows in a Drapery Study”, Harvard Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti, Series no. 29 (Harvard, 2013), 276–273, 840–841; Fran?oise Viatte, “The Early Drapery Studies”, in Bambach, Master Draftsman, 111; Keith Christiansen, “Leonardo’s Drapery Studies”, Burlington Magazine 132.1049 (1990), 572–573; Martin Clayton, review of Bambach Master Draftsman catalogue, Master Drawings 43.3 (Fall 2005), 376.]. Уже то, что устанавливать авторство довольно трудно, свидетельствует о принципах коллективизма, царивших в боттеге Верроккьо.
Молодому Леонардо эти упражнения помогли выпестовать одну из главных составных частей его художественного дарования: умение передавать свет и тень, создавая совершенную иллюзию трехмерного пространства на плоскости. А еще благодаря этим зарисовкам он довел до совершенства свою способность наблюдать за тем, как свет ласково обтекает предмет, создавая пятна блеска на выступающих частях, контрастную темноту в складках или намеки на отраженный отсвет, вползающий в самую глубь тени. “Первое намерение живописца, – писал Леонардо позднее, – сделать так, чтобы плоская поверхность показывала тело рельефным и отделяющимся от этой плоскости, и тот, кто в этом искусстве наиболее превосходит других, заслуживает наибольшей похвалы; такое достижение – или венец этой науки – происходит от теней и светов, или, другими словами, от темного и светлого (chiaroscuro)”[80 - Codex Urb., 133r-v; Leonardo Treatise/Rigaud, ch. 178; Leonardo on Painting, 15.]. Это заявление Леонардо можно считать его художественным манифестом – или, по крайней мере, его наиболее значимой частью.
Светотень, или кьяроскуро (от итальянских слов chiaro – “светлый” и scuro – “темный”), – это использование контрастов света и тени в рисунке или живописи для создания иллюзии пластичности и объемности фигур и предметов, изображенных на двумерной плоскости бумаги или полотна. Леонардо использовал эту технику по-своему: добиваясь более темного оттенка того или иного цвета, он не сгущал саму эту краску, а добавлял к ней черную. Например, работая над картиной “Мадонна Бенуа”, он брал для синего платья Девы Марии самые разные краски – от белого до почти черного.
Оттачивая технику изображения драпировок в мастерской Верроккьо, Леонардо попутно разработал прием сфумато – затушевки, размывания контуров и краев. Этот метод позволяет художнику изображать предметы такими, какими они предстают перед нашими глазами, а не с резко обозначенными контурами. Пристрастие к этому приему позволило Вазари провозгласить Леонардо изобретателем “новой манеры” в живописи, а искусствовед Эрнст Гомбрих называл сфумато “знаменитым изобретением Леонардо, размыванием очертаний и смягчением цветов, благодаря которым одна форма сливается с другой и всегда оставляет простор для воображения”[81 - Ernst Gombrich, The Story of Art (Phaidon, 1950), 187.].
Термин “сфумато” происходит от итальянского sfumare – “дымить”, но это слово значит еще и “таять в дымке”, постепенно растворяться и исчезать в воздухе. В наставлениях для начинающих живописцев Леонардо писал: “Напоследок – чтобы твои тени и света были объединены, без черты или края, как дым”[82 - Alexander Nagel, “Leonardo and Sfumato”, Anthropology and Aesthetics 24 (Autumn 1993), 7; Leonardo Treatise/Rigaud, ch. 181.]. Начиная с глаз его ангела в “Крещении Христа” и заканчивая улыбкой “Моны Лизы”, размытые и окутанные дымкой очертания фигур позволяют воображению дорисовать то, что осталось затуманенным. В отсутствие резких, четких линий загадочные взгляды и улыбки кажутся еще более таинственными.
Воины в шлемах
В 1471 году, приблизительно в ту пору, когда на вершину купола городского собора поднимали медный шар, Верроккьо и компания (как и большинство других флорентийских ремесленников) участвовали в подготовке к празднествам, которые Лоренцо Медичи решил устроить по случаю приезда Галеаццо Мария Сфорца – жестокого и деспотичного герцога Миланского (которого вскоре убьют). Галеаццо приехал в сопровождении смуглого и обаятельного младшего брата, Лодовико (Людовико) Сфорца, которому было в ту пору 19 лет, как и Леонардо. (Это ему спустя 11 лет Леонардо напишет то знаменитое письмо с перечислением своих умений.) Мастерская Верроккьо получила два важных задания к предстоявшим торжествам: заново украсить гостевые покои в доме Медичи и изготовить воинские доспехи и нарядный шлем – в подарок гостю.
Свита герцога Миланского ослепила даже флорентийцев, казалось бы, привычных к пышным зрелищам, какими баловали их Медичи. Герцог явился в сопровождении кавалькады из двух тысяч лошадей, шестисот солдат, тысячи борзых псов, сокольничих с соколами, трубачей, дудочников, брадобреев, дрессировщиков собак, музыкантов и поэтов[83 - “Visit of Galeazzo Maria Sforza and Bona of Savoy”, Mediateca Medicea, http://www.palazzo-medici-it./mediateca/en/Scheda_1471_-_Visita_di_Galeazzo_Maria_Sforza_e_di_Bona_di_Savoia; Nicholl, 92.]. Трудно не восхититься правителем, который путешествует не иначе как в окружении собственных цирюльников и поэтов. Стоял Великий пост, и пышные рыцарские турниры заменили тремя религиозными представлениями. И все же общая атмосфера была отнюдь не великопостной. Визит герцога как нельзя лучше показал, что Медичи использовали публичные зрелища и уличные шествия как способ рассеять народное недовольство.
В глазах Макиавелли, который помимо своего знаменитого руководства для властолюбивых правителей написал еще и историю Флоренции, эта тяга к карнавалам и празднествам являлась признаком упадка: “Однако появились во Флоренции те злосчастья, которые обычно порождаются именно в мирное время. Молодые люди, у которых оказалось больше досуга, чем обычно, стали позволять себе большие расходы на изысканную одежду, пиршества и другие удовольствия такого же рода, тратили время и деньги на игру и на женщин. Единственным их умственным занятием стало появление в роскошных одеждах и состязание в красноречии и остроумии… Все эти повадки были еще усугублены присутствием придворных герцога Миланского, который со своей супругой и всем двором своим прибыл во Флоренцию – по обету, как он уверял, – и был принят со всей пышностью, подобающей такому государю”[84 - Цитируется по: Никколо Макиавелли, “История Флоренции”, книга седьмая, глава XVIII, в переводе Н. Рыковой.]. Во время празднеств от обилия свечей одна церковь даже сгорела дотла – в чем, как писал Макиавелли, усмотрели знак божьего гнева, так как стоял Великий пост, “когда церковь предписывает отказ от мясной пищи, однако герцогский двор, не чтя ни церкви, ни самого бога, питался исключительно мясом”[85 - Niccolo Macchiavelli, History of Florence (Dunne, 1901; написана в 1525 г.), bk 7, ch.5.].
5. Воин.
Самый известный ранний рисунок Леонардо, возможно, был навеян тем визитом герцога Миланского или был с ним как-то связан[86 - Многие исследователи датируют этот рисунок приблизительно 1472 г., и мне такая датировка кажется верной, но Британский музей, где хранится рисунок, указывает другие даты: ок.1475–1480 гг.]. Рисунок изображает в профиль груболицего морщинистого римского воина в пышном шлеме (илл. 5), и основой для него послужил рисунок Верроккьо – его мастерская как раз работала над шлемом, который Флоренция собиралась преподнести в подарок герцогу. Леонардо выполнил этот рисунок серебряной иглой на грунтованной бумаге, а шлем украсил пугающе натуралистичным птичьим крылом и своими любимыми спиралями и завитушками. На нагруднике кирасы изображен несуразный, но симпатичный рыкающий лев. Лицо воина кажется слегка рельефным благодаря искусным теням, наведенным при помощи кропотливой штриховки, но челюсти, надбровья и нижняя губа выглядят преувеличенными и даже карикатурными. Этот профиль с крючковатым носом и выпирающим подбородком станет впоследствии постоянным лейтмотивом в рисунках Леонардо, он будет еще много раз воссоздавать этого старого угрюмого воина – благородного, но несколько нелепого.
Здесь очевидно влияние Верроккьо. Из “Жизнеописаний” Вазари известно, что Верроккьо “выполнил… полурельефом… из металла две вымышленных им головы в профиль, одну Александра Великого и другую Дария”, древнего персидского царя. Эти работы до нас не дошли, однако они известны по многочисленным копиям, сделанным современниками. Из них наиболее известен хранящийся в Национальной галерее Вашингтона мраморный рельеф с изображением молодого Александра Македонского, приписываемый Верроккьо и его мастерской. Там очень похожий нарядный шлем с крылатым драконом, и нагрудник панциря тоже украшен оскаленной мордой, и наблюдается то же буйство завитков и беспокойных завихрений, любовь к которым учитель привил подмастерью. Леонардо в своем рисунке убрал животное с огромной пастью, помещенное Верроккьо на верхушку шлема, превратил дракона в завитушки растительного орнамента и в целом немного разгрузил композицию. “Упростив изображение, Леонардо добился того, что внимание зрителя приковано к показанным в профиль головам воина и льва, то есть к взаимосвязи человека и зверя”, как отметили Мартин Кемп и Джулиана Бэрон[87 - Martin Kemp and Juliana Barone, I disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia: Collezioni in Gran Bretagna (Giunti, 2010), item 6. Сохранились различные варианты и копии рельефов, выполненных мастерской Верроккьо. Александра Великого из Национальной галереи Вашингтона можно увидеть здесь: http://www.nga.gov/content/ngaweb/Collection/art-object-page.43513.html. Обсуждение этих работ см. в: Brown, 72–74, 194, примечания 103 и 104. См. также Butterfield, The Sculptures of Andrea del Verrocchio, 231.].
Как это было и с парными рельефами Дария и Александра, Верроккьо иногда помещал профиль груболицего старого воина рядом с профилем миловидного юноши. Со временем это противопоставление станет одним из любимых мотивов Леонардо – и в рисунках, и в хаотичных набросках, очутившихся среди заметок. Одним из примеров служит работа Верроккьо “Усекновение главы Иоанна Крестителя”, серебряный рельеф для флорентийского баптистерия: у правого края композиции старый воин помещен рядом с молодым. В ту пору, когда отливалась эта скульптура, то есть начиная с 1477 года, когда Леонардо достиг двадцатипятилетия, уже неясно, кто на кого влиял. В молодом и старом воинах, глядящих друг на друга, и в ангелоподобном юноше, изображенном у левого края рельефа, ощущается такая подвижность, их лица передают столько чувства, что, вполне возможно, к ним приложил руку сам Леонардо[88 - Гэри Радке утверждает, что Леонардо участвовал в создании рельефа “Усекновение главы Иоанна Крестителя”. См.: Gary Radke, ed., Leonardo da Vinci and the Art of Sculpture (Yale, 2009); Carol Vogel, “Indications of a Hidden Leonardo”, New York Times, April 23, 2009; Ann Landi, “Looking for Leonardo”, Smithsonian, October 2009. О датировке рисунка Леонардо и скульптур Верроккьо и о том, кто из двоих на кого влиял в конце 1470-х гг., см. Brown, 68–72.].
Карнавальные зрелища и представления
Для художников и инженеров, трудившихся во флорентийских боттегах, подготовка к карнавалам и шествиям, которые часто устраивали Медичи, была важной частью работы. А Леонардо очень радовался таким заказам. Он уже прославился манерой броско одеваться, любил щеголять в парчовых камзолах и розовых плащах, а еще зарекомендовал себя талантливым оформителем театральных представлений. В разные годы – и во Флоренции, и особенно после переезда в Милан – он разрабатывал костюмы, театральные декорации, оборудование для сцены, спецэффекты, передвижные платформы, знамена и различные увеселения. Придуманные им театральные постановки нам неизвестны – от них остались лишь зарисовки в его тетрадях. Можно назвать это все просто пустыми развлечениями, но сам Леонардо, выступая режиссером и декоратором, радовался возможности объединить искусство с инженерной наукой, да и работа над подобными заказами немало способствовала формированию его личности[89 - Javier Berzal de Dios, “Perspective in the Public Sphere”, Renaissance Society of America conference, Montreal, 2011; George Kernodle, From Art to Theatre: Form and Convention in the Renaissance (University of Chicago, 1944), 177; Thomas Pallen, Vasari on Theatre (Southern Illinois University, 1999), 21.].
Ремесленники, трудившиеся над постановками театральных зрелищ, сами вырабатывали правила художественной перспективы, и в кватроченто эти правила были усовершенствованы. Живописные декорации и задники следовало искусно объединять с объемными элементами декораций, бутафорией, движущимися предметами и актерами. Реальность и иллюзии незаметно сливались. Можно проследить влияние этих спектаклей и представлений и на изобразительное искусство Леонардо, и на его инженерные идеи. Он пытался понять, как работают правила перспективы для разных точек обзора, любил мешать иллюзии с реальностью, обожал придумывать различные спецэффекты, костюмы, сценические декорации и театральные механизмы. Все это помогает лучше понять многие наброски и фантастические записи из его блокнотов, порой ставящие исследователей в тупик.
Например, некоторые замысловатые приборы, устройства и механизмы, которые Леонардо изображал на листах своих записных книжек, были, как мне кажется, театральными машинами, которые он видел или изобретал. Флорентийские постановщики часто создавали хитроумные механизмы (ingegni), которые позволяли быстро менять декорации, переносить диковинный реквизит и превращать сцену в ожившие живописные картины. Вазари восхвалял одного флорентийского плотника и механика, который придумал для одного действа такую сцену, где “к Христу на горе, вырезанной из дерева, подплывало облако с ангелами и уносило его на небеса”.
То же самое относится и к некоторым летательным приборам, изображенным в записных книжках Леонардо: возможно, они предназначались для увеселения театральной публики. Во флорентийских постановках персонажи пьес или предметы бутафории часто опускались с небес или как по волшебству повисали в воздухе. Как мы еще увидим, некоторые летательные машины Леонардо действительно разрабатывались для настоящих полетов человека по воздуху. Однако другие – те, что появляются на страницах его тетрадей с 1480-х годов, – похоже, придумывались исключительно для театра. К ним приделаны крылья с очень ограниченным размахом, приводившиеся в движение коленчатыми рычагами, и такие приспособления никак не могли бы поднять живого летчика в небо. На других, похожих листах имеются еще и заметки о том, как надлежит направлять свет на сцену, и чертежи системы с крюками и блоками для подъема актеров[90 - Codex Atl., 75 r-v.].
6. Летательный аппарат, вероятно, для театрального представления.
Даже знаменитый воздушный винт Леонардо (илл. 6), который часто преподносят как прототип первого вертолета, тоже, на мой взгляд, следует отнести к разряду ingegni – механизмов для развлекательных представлений. Теоретически эта спираль из льняной ткани, проволоки и тростника должна была крутиться и подниматься в воздух. Леонардо уточнял некоторые подробности – например, замечал, что этот прибор нужно изготавливать добротно – “из накрахмаленного полотна”, но не оставил никаких указаний, как именно он приводится в действие. Этого механизма достаточно, чтобы позабавить публику, но недостаточно, чтобы поднять в воздух человека. Рядом с одним чертежом он написал: “Можно сделать себе маленькую модель из бумаги, ось которой, из тонкого листового железа, закручиваемая с силой и, будучи отпущена, приводит во вращение винт”. В то время уже существовали игрушки, имевшие похожие механизмы. Как и некоторые механические птицы, придуманные Леонардо, его воздушный винт, скорее всего, был призван уносить ввысь воображение зрителей, а не их самих[91 - Paris Ms. B, 83r; Laurenza, 42; Pedretti, The Machines, 9; Kemp, Marvellous, 104.].
Пейзаж с Арно
Леонардо так нравилась товарищеская и даже семейная атмосфера в мастерской Верроккьо, что в 1472 году, когда срок его ученичества истек, а ему самому исполнилось 20 лет, он решил и дальше работать и жить у учителя. При этом он оставался дружен с отцом, который жил неподалеку со второй женой и по-прежнему не имел других детей. При вступлении в братство флорентийских живописцев, Compagnia di San Luca (“Товарищество св. Луки”), Леонардо подтвердил родственные отношения, подписавшись “Леонардо ди сер Пьеро да Винчи”.
Это объединение было не гильдией, а скорее чем-то вроде клуба или общества взаимопомощи. Среди других художников, сделавшихся членами братства и заплативших взносы в 1472 году, были Боттичелли, Пьетро Перуджино, Гирландайо, Поллайоло, Филиппино Липпи и сам Верроккьо[92 - Nicholl, 98.]. Братство существовало уже около столетия, но в ту пору оно переживало обновление – отчасти потому, что художники взбунтовались против закоснелой цеховой системы во Флоренции. Старая система подразумевала, что художники входят в гильдию Arte dei Medici e Speziali (“Цех врачей и аптекарей”), основанную еще в 1197 году. К концу XV века у художников созрело желание выделиться в особую профессиональную группу.
___
Через несколько месяцев после того, как Леонардо сделался самостоятельным художником, он оставил Флоренцию с ее толкучими узкими улочками и тесными мастерскими и уехал в зеленые холмистые окрестности Винчи. “Я гощу у Антонио и доволен”, – записал он в своих дневниках летом 1473 года, когда ему был 21 год[93 - “Io morando dant sono chontento” – вот его точные слова. К тем, кто толкует это “dant” как сокращение от “d’Antonio”, относится Серж Брэмли (Bramly, 84). А вот Карло Педретти в своих комментариях к Рихтерову переводу записных книжек Леонардо дает совершенно иное толкование: он понимает эти слова как “Jo Morando dant sono contento” (“Я, Морандо д’Антонио, соглашаюсь на…”) и высказывает предположение, что это черновик какого-то договора (Commentary, 314).]. Его деда Антонио уже не было в живых, так что, скорее всего, речь идет о муже его матери, Антонио Бути (по прозвищу Аккаттабрига). Можно представить себе, как он рад был погостить у матери и многочисленной родни с ее стороны в горах под Винчи, – и вспомнить его притчу о камне, который сначала пожелал скатиться к другим камням на проезжую дорогу, а потом затосковал по своему родному тихому пригорку.
7. Пейзаж Леонардо “Вид долины Арно”, 1473 г.
На оборотной стороне листа с той записью сделан рисунок – возможно, самый ранний из сохранившихся рисунков Леонардо. Это блестящее начало творческого пути, свидетельствующее и о наблюдательности ученого, и о зоркости живописца (илл. 7). Рядом зеркальным почерком приписана дата: “день святой Марии в Снегах, 5 августа 1473”[94 - Уффици, Кабинет рисунков и гравюр, № 8Р. Рисунок, изображающий воина в шлеме, возможно, был выполнен еще раньше – около 1472 г.; см. прим. 35 выше.]. Импрессионистический пейзаж, набросанный быстрыми движениями пера по бумаге, изображает скалистые горы и утопающую в зелени долину Арно в окрестностях Винчи. Можно различить отдельные опознаваемые приметы местности – конусообразный холм, возможно, какой-то замок, – но в этой пейзажной панораме, столь типичной для Леонардо – словно увиденной с высоты птичьего полета, – действительное перемешалось с воображаемым. “Если живописец пожелает увидеть прекрасные вещи, внушающие ему любовь, то в его власти породить их, – писал он. – Если он пожелает долин, если он пожелает, чтобы перед ним открывались с высоких горных вершин широкие поля, если он пожелает за ними видеть горизонт моря, то он властелин над этим”[95 - Codex Urb., 5r; Leonardo on Painting, 32.].
Другие художники тоже рисовали пейзажи в качестве фона, но здесь Леонардо сделал нечто принципиально иное: он изобразил природу ради самой природы. А значит, этот рисунок с видом долины Арно претендует на роль первого в европейском искусстве полноценного пейзажа. Поражает геологический реализм: показывая скальные обнажения, размытые рекой, Леонардо тщательно изобразил напластования горных пород – явление, которое завораживало его всю жизнь. Не меньше удивляет и его почти идеальная линейная перспектива, и тающие в дымке очертания далекого горизонта, – такой оптический эффект Леонардо позднее назовет “воздушной перспективой”.
Но еще больше поражает мастерство молодого художника, проявившееся в передаче движения. Листья на деревьях и даже их тени нарисованы такими быстрыми косыми линиями, что кажется, будто они дрожат на ветру. Вода, падающая сверху в заводь, покрыта живой рябью от быстрых трепетных ударов пера. В итоге Леонардо блестяще продемонстрировал, что наблюдать за движением – особое искусство.
Товий и ангел
8. Верроккьо при участии Леонардо, “Товий и ангел”.
Работая в мастерской Верроккьо уже как самостоятельный живописец, двадцатилетний Леонардо выполнил отдельные элементы на двух картинах своего учителя: его кисти принадлежат резвая собачка и блестящая рыба в “Товии с ангелом” (илл. 8) и крайний слева ангел в “Крещении Христа”. Эти созданные в соавторстве работы прекрасно показывают, чему он научился от Верроккьо, а в чем со временем превзошел учителя.
Библейское предание о Товии, пользовавшееся большой популярностью во Флоренции позднего кватроченто, повествует о юноше, которого слепой отец отправил взыскать долг, и об архангеле Рафаиле, который оберегал его в пути. По дороге они поймали рыбу, и оказалось, что ее внутренности обладают целебным свойством: помазав отцу глаза рыбьей желчью, сын вернет ему зрение. Рафаил считался ангелом-хранителем путников, а также святым покровителем гильдии врачей и аптекарей. Рассказ о нем и о Товии очень нравился богатым купцам, которые стали главными меценатами во Флоренции, особенно тем из них, чьи сыновья тоже нередко пускались в странствия[96 - Ernst Gombrich, “Tobias and the Angel”, in Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance (Phaidon, 1972), 27; Trevor Hart, “Tobit in the Art of the Florentine Renaissance”, in Mark Bredin, ed., Studies in the Book of Tobit (Bloomsbury, 2006), 72–89.]. Среди флорентийцев, писавших картины на этот сюжет, были Поллайоло, Верроккьо, Филиппино Липпи, Боттичелли и Франческо Боттичини (семикратно).
9. “Товий и ангел” Антонио Поллайоло.
Вариант Поллайоло (илл. 9) был написан в начале 1460-х годов для церкви Орсанмикеле. Леонардо и Верроккьо были хорошо знакомы с этой работой, потому что Верроккьо делал свою скульптурную группу “Христос и святой Фома” для ниши в стене этой самой церкви. Принявшись через несколько лет за собственного “Товия и ангела”, Верроккьо вступил в открытое состязание с Поллайоло[97 - Brown 47–52; Nicholl, 88.].
Картина, вышедшая из мастерской Верроккьо, в точности повторяет некоторые элементы композиции Поллайоло: Товий и ангел идут рука об руку, рядом семенит болонка, Товий держит на палке со шнурком карпа, а в руке у Рафаила – миска с рыбьими потрохами. Фоном для фигур служат берега извилистой реки с пучками травы и купами деревьев. И все же картина получилась совершенно другая. Иначе переданы детали, иное впечатление получает зритель, при этом нам становится понятно, чему именно учился Леонардо.
Главное отличие в том, что у Поллайоло все выглядит каким-то одеревеневшим, а у Верроккьо – живым. Оставаясь прежде всего скульптором, Верроккьо мастерски изображал извивы и повороты, придававшие человеческим телам динамизм. Его Товий идет, чуть наклонившись вперед, плащ за его спиной полощется, а кисточки пояса и даже отдельные нити развеваются на ветру. Позы Товия и Рафаила, повернутых друг к другу, смотрятся совершенно естественно. Даже за руки они держатся более непринужденно. Если у Поллайоло лица получились совсем отсутствующие, то на картине Верроккьо движения тел соотнесены с выражениями лиц, так что легко считываются не только физические, но и душевные порывы библейских персонажей.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:



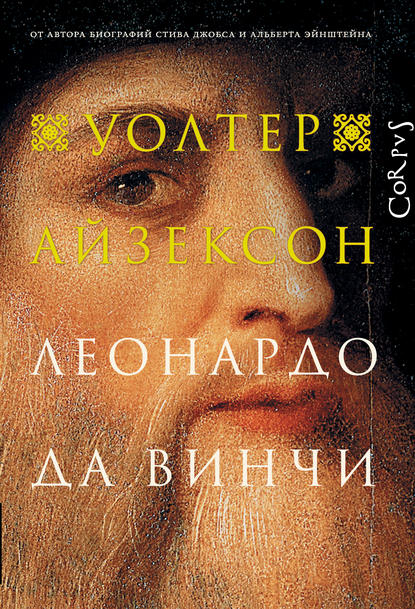




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0