
Акулы из стали. Последний поход (сборник)
– А примерно так всё и планировалось. Чуть что – «Акулы» сразу под лёд и шоркаются там полгода, а потом: «Здрасьте, господа империалисты, мы не видим ваших высоко поднятых от восторга рук!»
– А прожекты были у вас там такие, как этот, безумные по широте своего размаха?
– Был, Михалыч, один. Ракеты же на «Акулах» твердотопливные. Они точные, безопасные и с огромной дальностью полёта. Но. Возник один нюанс – больно уж они большие получились. Всякие там америкосы, чтоб не париться особо, клепают свои «стратеги» десятками и пасут их всё время недалеко от наших берегов. Случись что, неизвестно ещё кто кого, то ли наши противолодочники с летунами их, то ли они нас. Как повезёт, в общем. Ну и хули тогда? Подумали наши полководцы – построим большие лодки, делов-то? Автономность им рассчитаем на сто двадцать суток, по двести боеголовок на каждую запихнём и под лёд их, шельмецов, запустим. А пусть-ка попробуют там с ними побороться! А то на чистой воде и дурак сможет, а подо льдом каждая «Акула» как папа будет! И построили ведь! Шесть, Михалыч, корпусов умножаем на двести, итого выходит: тысяча двести боеголовок с индивидуальным наведением каждая сидели бы подо льдом и ждали своего часа.
– Грандиозно, да.
– Несомненно. Но понимаешь, Михалыч, ракеты же на лодки грузить чем-то надо. Большие ракеты – большой кран нужен. Один такой есть в Северодвинске на «Звёздочке» и… И всё. И вот стали они кран строить прямо в губе Нерпичья, где «Акулы» базировались. Вот можешь ты себе, Михалыч, представить самый большой по твоему, сундуковскому разумению, кран?
– Могу!
– Представляй.
– Представил.
– А теперь увеличь его в два раза ввысь и вширь. Увеличил?
– Ага. Это же, блядь, в голове не укладывается!
– Ну вот. Как они его туда привезли, это науке неизвестно. Привезли, собрали, построили подстанцию для него с бесперебойным и автономным питанием, ну домов там наставили для обслуживающего персонала, может, даже садик какой со школой замутили и начали вести ветку железной дороги от Мурманска до этого крана.
– Провели?
– Не, километров восемь или десять не дотянули. Оказалось, что в то место, где стоит кран, «Акула» подойти не может, потому что река Западная Лица постоянно наносит туда ил, глину и песок. И как будто мало этого, но по загибам железной дороги ракету подвезти невозможно. Не знаю, расстреляли кого за это дело или повесили, но забросили проект в девяностопятипроцентной готовности. Так вот и стоит, Михалыч, этот кран с этим мини-посёлком, только железную дорогу всю на металл растащили.
– Охуеть.
– Ну.
– По пиву?
Мы вышли на солнышко и, щурясь под его лучиками, стали потягивать холодненький напиток, молчали какое-то время. Я осиливал тоннель, а Михалыч – кран.
– О, смотри, там дивизия вроде строится. Прикончили ПХД!
Мы с Михалычем привели себя в порядок и побрели строиться.
– Почему опаздываем? – рявкнул было на нас командир дивизии, крайне интеллигентный, в общем, товарищ. Единственный на моей памяти, который старательно избегал употребления ненормативной лексики. Не всегда ему это удавалось, но он старался.
– Тащ капитан первого ранга! – бодро доложил Михалыч. – Мы заканчивали работы на объекте! Решили, что пока всё не уберём, то нечего и начинать было!
– Молодцы! – обрадовался командир дивизии. – Вот она, ответственность, достойная моряка! Вставайте в строй!
Помощник, конечно, строил нам страшные рожи, но кто на него, выскочку, внимания будет обращать? Помощников в дивизии – шесть из шести возможных вариантов, а вот комдивов три – я один из двух на шесть экипажей.
Как я уже упоминал, СССР стремился во что бы то ни стало победить в третьей мировой войне и это ему, скорее всего, удалось бы. Но вот о людях своих он не думал совсем. Вернее, не то что о людях, а о том, какими способами и какой ценой они будут исполнять свои обязанности. Или наоборот, думал и верил, что из них, если что, и гвоздей наковать можно.
Есть на востоке Онежского полуострова село Нёнокса, и никому оно неизвестно, начиная от Калининграда и заканчивая Владивостоком. Ну село себе и село, а в двух километрах севернее его есть ещё один посёлок – Сопка, вообще никто про него не знает. Никто, за исключением подводников с Камчатки. Они-то уж знают даже координаты всех полигонов вокруг этих посёлков. А всё почему? А всё потому, что херачат они по этим полигонам своими баллистическими ракетами в целях обучения личного состава. В этих посёлках сидят северные военные, которые знают всё о таком же полигоне на Дальнем Востоке, потому что по нему стреляем мы. И готовят, соответственно, нам целеуказания для наших ракет.
Если вы смотрели всякие художественные фильмы на эту тему, то я вам расскажу сейчас правду. Целеуказания в головы баллистических ракет вводятся с помощью перфокарт. Специально обученные люди в посёлке Сопка, которые служат там от лейтенантов и до полковников, получив приказ, набивают стопку перфокарт, упаковывают их в специальный контейнер, контейнер – в портфель, портфели обвязывают тросом, опечатывают и приковывают к руке какого-нибудь капитана, например. Капитан садится на велосипед и едет на нём до ближайшей железнодорожной станции, там он прячет велосипед в кусты, садится на дизель и едет в Северодвинск, в Северодвинске он добирается до порта, где его ждут подводники. Подводники уже устали от пьянства и активного отдыха, они измаялись от красоты Северодвинска и твёрдости почвы под ногами, они сучат ножками и хотят уйти в море поскорее – поправить своё здоровье. Они уже загрузили ракету, и их командир написал на ней мелом какую-нибудь надпись, сообразно своему чувству юмора и залихватскости натуры (Александр Сергеевич писал «Лети с миром!»), и им, этим подводникам, не терпится уже стрельнуть этой самой ракетой, попасть ею в заданную точку и заработать пару медалек парням в штабах. Ну где уже этот сраный капитан с целеуказанием?
Уставший и пыльный капитан, который провёл в дороге несколько часов и часть из них – пешком и на велосипеде, с портфелем спускается на борт.
– Почему так долго? – Капитан уже привык, что он всегда долго, и не реагирует на это замечание командира.
На корабле немедленно объявляется тревога (на всякий случай, а вдруг пульнёт ракета?) и проверяются целеуказания. На разных этапах оно может не пойти – перфокарты, вы же понимаете. Во всяком случае, те из вас, кто помнит, что это такое…
– Не идёт, тащ командир!
– Проверили?
– Трижды!
Ну да, два часа уже сидим по тревоге. Капитан собирает перфокарты, пакует их и двигается в обратный путь пешком-автобус-пешком-дизель-велосипед из кустов – перебивка перфокарт. Потом в обратном порядке. И так до тех пор, пока перфокарты не пройдут проверку.
Та ещё работёнка, доложу я вам, зато капитаны эти всегда стройные и подтянутые, хоть и пыльные, как мешки из-под картошки. А вы говорите!..
Намотать на винт
Это знатная традиция в подводном флоте. Конечно, вас может удивить – мол, не девятнадцатый же век и всё такое… Конечно, средства защиты и уклонения развиты до невозможности, но есть одно «но». Всё это с успехом разбивается об алчность, отчаянность и наплевательское отношение рыбаков к строгим предупреждениям.
То ли у рыбаков есть такое негласное соревнование, кто больше словит подводных лодок в свои сети, то ли по их какому-то рыбацкому поверью, если траулер будет утащен в морскую пучину подводной лодкой, то весь экипаж попадает автоматом в рыбацкую Вальхаллу, где много сёмги, водки и женщин… Но все предупреждения о том, что в районе работает «единица» (подводная лодка), ими упорно игнорируются, и они с упорством Сизифа всё время пытаются нас словить.
– Тащ командир, рыбак!
Все эти истории обычно начинаются с такого доклада акустика.
– Да ну на!!! Опять?! Где он?
– На траверсе, но активно движется в нос на пересечение курса!
– Активно можешь работать?
– Никак нет, «Сталворт» (корабль разведки НАТО) в районе работает!
– Бля. Штурман! Можем покидать квадрат?
– Никак нет, тащ командир. Полтора часа ещё в нём находиться.
– Ну, ебжешь! Записать в вахтенный журнал: обнаружено рыболовецкое судно, начинаю манёвр уклонения, хода и курсы переменные! Ну как так-то? Ну, блядь, так хорошо всё шло!
– Сан Сеич, – шепчет зам, – система записи включена, а вы матом ругаетесь, что потомки подумают?
– Это не мат! – наклоняется командир к микрофону. – Это грубый военно-морской юмор! Так потомкам и передайте!
– Кодив три, ДУК[2] к стрельбе изготовить! Антоныч, дров там каких напихайте, масла налейте, хуй знает, может, поможет!
– Внимание в отсеках! – командует командир в «Лиственницу». – Начинаю манёвр уклонения от рыбака!
И девятиэтажный дом длиной в два футбольных поля начинает маневрировать на глубине шестьдесят метров обеими турбинами, обеими САУ[3] и обоими рулями, пытаясь не походить на эхолокаторе на косяк трески и уклониться от утлого ржавого кораблика размером с три спичечных коробка. Не знаю, если честно, как выглядит на эхолокатаре косяк трески и как он там маневрирует, но нам ни разу не удалось обмануть рыбаков. Они всё время были уверены, что мы и есть тот самый заветный косяк рыбы.
– У него сейчас дизеля лопнут, похоже, – докладывает акустик, – не отстаёт и пытается пересечь курс!
– Да йобаный же папуас! ДУК, пли!
Трюмные жахают на поверхность пятно из досок и масла, а рыбаки, видимо, в это время радостно кричат на борту своего Боливара:
– Шпроты!!! Ребзя!! Ату их, ату!!!
Ну а иначе я не могу объяснить, как можно не понять пузырь из масла на поверхности в полигоне, в котором, по переданным им данным, находится подводная лодка?
– Скорость по лагу не соответствует оборотам турбин! – штурман.
– Лодку ведёт вправо по курсу! – боцман.
– Центральный! Растёт температура ГУП правого борта, обороты турбины самопроизвольно снижаются! – пульт ГЭУ.
– Да йобаный жешь ты нахуй! Акустик, где эти пидоры унылые?
– Правый борт, расходимся!
– Боцман! Пятнадцать градусов на всплытие! Товсь дуть среднюю!
– По местам стоять к всплытию! – объявляет механик по громкоговорящей связи, и лодка, припадая на правый борт, ползёт на перископную глубину.
На тридцати метрах командир уже кричит с перископной площадки:
– Поднять перископ!!!
На тридцати метрах поднимать его строго запрещено, поэтому тяну два-три метра и поднимаю.
– Осмотрен горизонт и воздух! Горизонт и воздух чист! Продуть среднюю!
В это время, я так понимаю, рыбаки уже отрубили свой трал, подозревая, что что-то пошло не так. А тут из воды на их изумлённых глазах выскакивает Моби Дик, только чёрный.
– Еба-а-а-ать! – кричат, видимо, в это время на рыбаке. – Ребзя, бегим!
– Стоп турбины! – командует командир и бежит наверх.
В обычном режиме сначала выравнивают давление перед тем, как открыть рубочный люк, но сейчас, судя по отсутствию свиста и удару по ушам, командир посчитал это лишним и открыл люк сразу.
– Што! Штобля!!! Штобля вы делаете, бакланы!!! – орёт командир, свесившись с мостика по пояс, в сторону ржавой коробочки, которая старательно отворачивается от нас и пытается удрать.
– Аркадий! – командует командир помощнику. – Ну-ка, блядь, раздвижной упор пусть кто-нибудь вынесет на мостик!
С раздвижным упором на мостик бежит Борисыч, командир седьмого отсека.
– Борисыч! Ну-ка, Борисыч, сделай вид, что это ПЗРК[4], и прицелься в этих корсаров!!! Хоть обосрутся, может, козлы!!
Раздвижной упор сильно издалека вполне себе похож на ПЗРК. Борисыч вскидывает упор на плечо, наводит его на рыбака и орёт дурным голосом:
– Тащ командир!!! К стрельбе готов!!! Цель на мушке!!!
«Ну что за клоуны», – думают чайки, которые в это время пытаются присесть на ракетную палубу.
Фиг его знает, какая там у рыбака крейсерская скорость, но улепётывал он от нас тогда знатно. Аж труба красная была. А на винт мы намотали, да. Знатная борода тогда на правом винте болталась. Два дня потом в базе сматывали её.
Пока суть да дело, Борисыч решил на мостике перекурить.
– Тащ командир, – докладывает в это время помощник, – «Орион»!
– Ну а как же? – даже не удивляется командир. – Ну а как же, блядь, по-другому-то?!
«Орион» (разведывательный самолёт НАТО) уже видят все даже невооружёнными глазами. На низкой скорости над самой водой он заходит на нас, сейчас будет рисовать акустический портрет.
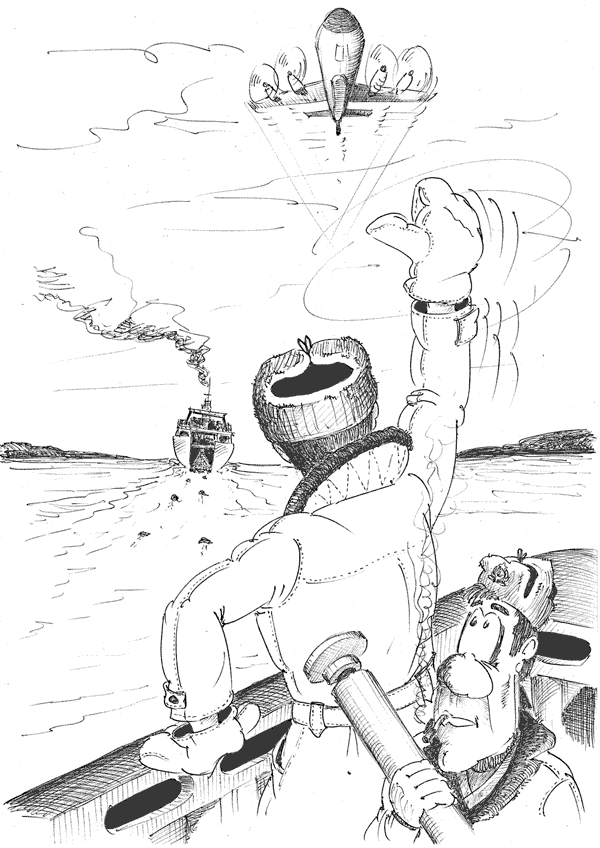
– Центральный, акустический портрет искажайте – командир уже устал и ничего не хочет.
Мы начинаем запускать насосы, помпы и прочие механизмы по заранее отработанной схеме.
– Тащ командир!!! К стрельбе готов!!! Цель на мушке!!! – это Борисыч от избытка воинской доблести вскинул раздвижной упор на плечо и целится им в «Ориона», распугав своей неожиданной отвагой весь ходовой мостик.
– Борисыч! – Командир уже спокоен и расслаблен. – Что ты делаешь?
– Пугану его, тащ командир!!!
– Борисыч, у него минимум две ядерные торпеды на борту, если он тебя сейчас в ответ пуганёт, то ты даже усраться не успеешь. Вот же трюмная простота.
– Не, всё норм, тащ командир, – докладывает старпом, который следит за «Орионом» в бинокль, – лётчики ржут и хлопают Борисычу в ладоши.
И все начинают на мостике тоже ржать, в основном над Борисычем.
– Сами дураки, – бубнит Борисыч, спуская много килограмм своего железа в люк. – Хуй я вам больше упор свой понесу! Пусть люксы ваши любимые вам упоры носят свои!
А в базу передали: «Намотал на винт, ограничен в маневрировании. Прошу дальнейших указаний». Само собой, нас завернули в базу, куда мы ковыляли на одной турбине долго-предолго. А в базе оказалось, что ПДСС[5] (боевые водолазы осматривали нам корпуса и проводили работы всякие под водой) чем-то занят, и смотать трос нам надо самим и «срочнобля!!!».
И мы искали плотик, плавали на этом плотике в акватории губы Нерпичья, вызывая дружный хохот всех экипажей, спускали с него своих водолазов и два дня сматывали этот трал со своего винта.
«Дуст»
Не сочтите за гендерный шовинизм (ну или сочтите, как вам будет угодно), но мне абсолютно понятны любые профессии, которые выбирают себе женщины, и не совсем понятны две профессии, которые выбирают себе мужчины. Например, гинеколог. Ну вот какая детская мечта приводит мальчика к выбору профессии «гинеколог»? Вот я могу понять, как мальчик, почитав «Капитана Блада» и посмотрев «Секретный фарватер», захотел стать моряком. А что он прочитал или посмотрел, после чего захотел стать гинекологом? Вторая непонятная для меня профессия – это химик на подводной лодке.
Мне лично вообще непонятно, как можно настолько любить химию, чтоб выбрать её своей профессией, но я могу это представить ещё. Но вот химик на подводной лодке – он же не химик вообще. Никакой химией он там не занимается от слова «вообще». Он, безусловно, незаменим, и в его заведовании находится наиценнейший ресурс – воздух. Он отвечает за производство кислорода и удаление углекислого газа (грубо говоря), но никаких там пробирок, реакций, формальдегидов (или как они там называются) и ковалентных связей! Ну стоит установка гидролизная и компрессор с баллонами, и в каждом отсеке приборы для раздачи кислорода – но, позвольте, при чём тут химия? И ещё для меня всегда было загадкой, почему это – отдельная служба, а не четвёртый дивизион в БЧ-5? От этого получается некоторый диссонанс: химик – он вроде как и не люкс, но и не механик же. И «пассажиром» его не назовёшь, и «маслопупым» тоже. Поэтому называют их «дустами».
Почему «дустами»? А потому что – нехуй! Именно так и ответил мне старшина роты, когда я у него спросил, почему именно «дустами», а не каким-нибудь более благородным словом. Логики в данном объяснении я не уловил, конечно, но наш старшина вообще был специалистом по переплавке логических цепей в прямоточные штыри длиной не более пяти сантиметров. Химический факультет был самым разношёрстным по составу, и вообще непонятно было, что они там учат и чем занимаются в то время, когда не бегают в самоходы и не разлагаются в своём общежитии. Это вот было для нас, как чердак в старом заброшенном доме: наверняка там что-то есть и даже происходят какие-то события, может даже живут крысы и привидения, но на самом деле – хрен его знает что там творится. Часть поступивших туда были идейными химиками (загадка природы), а другие просто не смогли поступить на нормальные факультеты и вовремя воспылали любовью к химии. Они и выглядели самым разношёрстным сборищем: от откровенных фриков до красавцев-качков. Один, помню, учился там нерусский – здоровый, как шкаф. Ну как учился – как ни заглянешь в спортзал, он там качается. Мы с ним разговаривали даже четыре года почти каждый день.
– Привет, братан! – басил он, сжимая мою руку чуть не по локоть своей лапищей. – Обижает кто?
– Да не, – отвечал я ему. – Вообще никто не обижает.
– Ну ты это… Говори, если что.
И так вот четыре года без изменений даже в интонациях. Поэтому, понимаете, от них держались как-то особняком несколько, но чего у них было не отнять – ребята были весёлые. Для меня всё представление о химиках ограничивалось этим вот качком, ещё одним длиннющим, рыжим и ужасно нескладным парнем и двумя земляками-спортсменами моего друга Вовы. А потом я попал на флот и познакомился с нашим корабельным химиком Димой, с самой настоящей залихватски-пиратской фамилией… Не скажу какой.
И знаете, что я вам скажу про Диму? Дима был охуенным. На этом, в общем-то, можно было и закончить рассказ о нём. Для себя, во всяком случае, я уже всё рассказал, но для вас напишу ещё несколько букв.
Дима был на год (или на два, точно не помню) старше меня и, естественно, пришёл служить сразу начальником химической службы, так как других офицерских должностей химиков на корабле просто не было. Вот пришёл ты лейтенантом и сразу занял верхнюю ступеньку иерархии своей служебной лестницы на корабле. Круто же? А вот и нет. Спрос с тебя сразу же как с начальника службы, а ты ещё совсем неоперившийся юнец. На некоторых юных химиков смотреть было даже жалко из-за этого, но только не на Диму.
Во-первых, Дима был умён. Во-вторых, в меру нагл. И в-третьих, он всегда был по военно-морскому красив. Ни единого раза за всю нашу совместную службу я не видел его небритым, неглаженым, неопрятно одетым или неаккуратно причёсанным. Даже страдающим с бодуна я его не видел ни разу. Вот вчера (плавно переходящим в сегодня) вместе пили, сегодня все – как говно, а Дима – огурцом. Ну не в смысле, что зелёный и пупырчатый, а свежий и бодрый. А ещё у Димы был каллиграфический почерк. Вот, блядь, откуда у химика взялся каллиграфический почерк, скажите мне, люди добрые? Да, я ему завидую и не намерен даже этого скрывать, потому что когда я пишу, то в соседних деревнях молоко прямо в коровах киснет, а он когда пишет, то прямо «аххх!». И Дима всегда был готов помочь этим своим почерком. Например, он на весь экипаж рисовал тушью боевые номера, которые люди потом пришивали себе на грудь. На сто восемьдесят человек, на минуточку! Я до сих пор храню этот боевой номер и когда на него смотрю, то сразу Диму вспоминаю. А ещё я вспоминаю Диму, когда смотрю на вымпел, который мне, как и каждому члену экипажа, вручил командир к десятилетнему юбилею корабля, и на каждом вымпеле Диминым почерком написано.
Вот сидел человек и подписывал сто восемьдесят (примерно) таких вымпелов – ну не умничка ли?
Дима любил военно-морскую форму и носил её со вкусом и знанием дела. Это, конечно, даже служило поводом для некоторых подколок. На одном строевом смотре, например, офицеров неожиданно попросили предъявить платки и расчёски. И Дима предъявил, чем вызвал неподдельное удивление даже у проверяющего, а старпом спросил у него шёпотом: «Дима, так может у тебя и яйца на одном уровне висят даже?» А когда начали вводить новую форму одежды и нам её выдавать, то Дима был первым офицером (скорее всего, на всём флоте), который надел пилотку нового образца. После старых, родных и уютных военно-морских пилоток, которые были полукруглые и через три-четыре года ношения срастались с черепом настолько, что в них даже спать можно было ложиться, новые прямоугольные, откровенно похожие на фашистские и прозванные в народе «буйновками» от фамилии певца ртом Буйнова, вызывали дружное и стойкое отвращение, но только не у Димы.
– Это что у тебя на голове? – удивлённо спросил командир Диму утром на построении.
– Это – пилотка, тащ командир! – бодро ответил Дима.
– Точно-точно пилотка? А где ты её взял?
– А их всем выдают на складе, тащ командир!
Командир с интересом оглядел строй, не нашёл ни одной такой пилотки. Потом снял свою с головы, посмотрел, подумал, сказал «ну ладно» и пошёл дальше.
А какие нам пытались выдавать фуражки! Мать моя женщина! Штук пять бакланов легко могли свить себе гнёзда на их поле, а тулья была так высоко и круто задрана, что даже в руках держать их было как-то неудобно. От скромности, конечно. Раньше-то мы фуражки такого размера только на Грачёве видели, а тут нам предлагалось и самим приобщиться к прекрасному натуральным образом. Мы и старые фуражки-то не носили в задуманном их конструкторами виде, а делали из них прекрасные, практичные и чёткие военно-морские «грибы». И тут опять: все знают, какие пружины нужно выбросить, какие укоротить, сколько вытащить ваты и как и где подрезать. Но все бегают к Диме и ноют: «Ну Ди-и-и-имочка, ну пожалуйста, ну сделай мне гриб!» – потому что Дима делал форменную красоту и шик, а все остальные – как бы порнографию, но только без сисек.
И Диму все любили и уважали, без малейшего исключения, потому что Дима был добрым и справедливым.
– Сей Саныч, а почему вы мне «шила» налили меньше, чем Антонычу?
– Чё это меньше? Столько же и налил.
– Да как столько же? У него во-о-он какая бутылка, а у меня вот какая всего!
– Это потому, Дима, тебе кажется, – учил его Антоныч, – что в чужих руках всегда хуй толще!
Диме не очень везло с подчиненными – один из его мичманов был откровенным бездельником с помелом вместо языка, а второй – хроническим алкоголиком, которого Дима жалел, потому что двое детей, но которого всё-таки уволили после того, как он выбросил диван из окна пятого этажа, потому что в нём поселились марсиане. В общем-то, они ему и не мешали, но наотрез отказывались платить за проживание (ну марсиане, что с них взять?), чего и не выдержала в итоге справедливая мичманско-химическая душа. И даже после этого Дима продолжал его жалеть, хотя получил взамен нормального и избавился от части работы.
Дима был единственным человеком на корабле, который никогда не носил ПДА в море. Как ему это удавалось, я не знаю, стандартная его фраза «Я же химик, у меня встроенный» вряд ли помогла бы ему, так как за неношение ПДА жёстко драли всех без исключения и даже командир дивизии, выходя старшим на борту, всегда ходил с этой штуковиной. Но только не Дима. Представляете, какого обаяния был человек? Не представляете скорее всего. Но я вам подскажу – неизмеримого. У него всегда всё работало, всегда всё грузилось и выгружалось без ЧП и отрезанных пальцев, всегда всего хватало и даже было с избытком. Вот просто такой царь, а не начхим, создавалось впечатление.
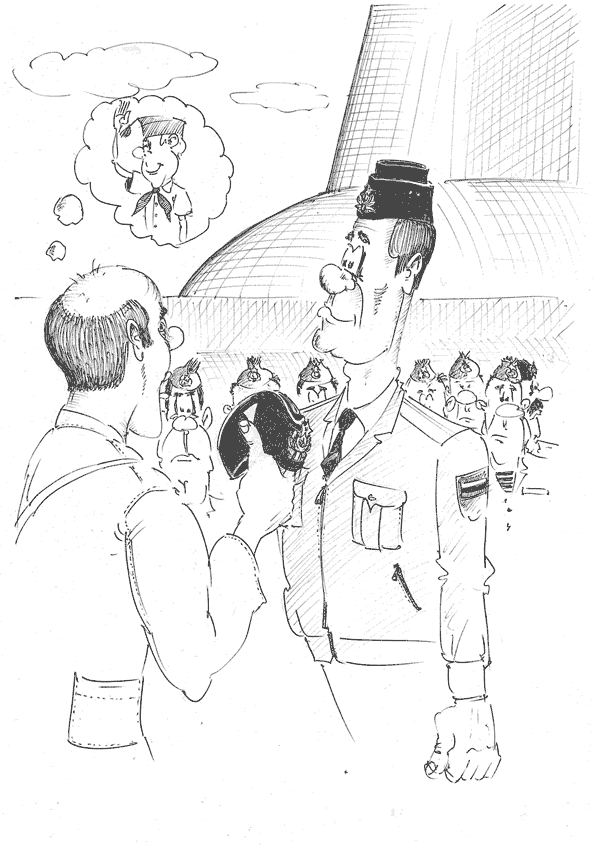
Царь потому ещё, что у него были ключи от курилки, куда можно было втихаря сбегать покурить в базе, когда на улице сильный мороз или лень после сауны. Так-то, конечно, открытый огонь на подводной лодке категорически запрещён в любом виде, естественно, но если начхим в друзьях, то почему бы и нет? А ещё в курилке хранились кассеты с палладиевой шихтой в количестве нескольких десятков штук и ценой в один подержанный автомобиль каждая. Но ключи Дима оставлял не всем, конечно. Даже мне давал пару раз, от чего, не скрою, я очень гордился, потому что такая степень доверия, знаете ли, не так просто заслуживается.
Дима потом уехал учиться на свои химические классы и ушёл на повышение флагманским химиком дружественной дивизии в Гаджиево. Дима жив и здоров и, надеюсь, так же весел и обаятелен, каким и будет всегда в моей памяти.
Прозвище «дуст» для меня перестало носить какой-то некрасивый оттенок после знакомства с Димой. Потому что Дима был всем дустам дуст. Не слово, знаете ли, красит человека, а человек – слово. Что такое слово в отрыве от человека? Произвольный набор букв, случайно придуманный каким-то неизвестным науке человеком для обозначения какого-то объекта или события, а чаще всего для обмана другого человека. Поэтому, чтобы придать слову какой-то вес или окрас в собственных глазах, приложите его к знакомому вам человеку и потом уже окрашивайте. Как я, например, приложил слово «дуст» к Диме, и слово теперь это для меня почётное.