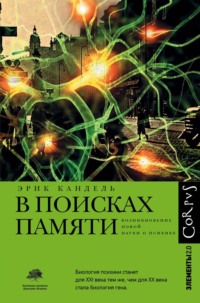
В поисках памяти
Я начал, под некоторым ее руководством, исследовать ее тело, но она вдруг смутилась и сказала, что мы должны остановиться, иначе я могу забеременеть. Но как я мог забеременеть? Мне было прекрасно известно, что дети рождаются только у женщин. Откуда у мальчика может родиться ребенок?
– Из пупка, – ответила она. – Доктор посыпает его порошком, и пупок развязывается, чтобы ребенок мог выйти наружу.
Какая-то часть меня знала, что это невозможно. Но другая часть была не столь уверена, и хотя это казалось неправдоподобным, меня слегка встревожили возможные последствия. Меня беспокоило, что скажет мама, если я забеременею. Эта обеспокоенность и изменившееся настроение Митци положили конец моему первому сексуальному опыту. Но с тех пор Митци продолжала открыто говорить мне о своих сексуальных желаниях и что могла бы осуществить их со мной, будь я постарше.
Но Митци не стала хранить мне верность, дожидаясь, пока я достигну возраста, соответствующего ее требованиям. Через несколько недель после нашего краткого рандеву в моей постели она сошлась с ремонтником, приходившим чинить нашу газовую плиту. Месяц или два спустя она убежала с ним в Чехословакию. После этого я много лет считал, что убежать в Чехословакию – это то же самое, что отдаться чувствам и посвятить этим радостям жизнь.
Характерными чертами нашего буржуазного семейного счастья были еженедельная игра в карты в доме моих родителей, семейное празднование еврейских праздников и летние каникулы. По воскресеньям тетя Минна, младшая сестра моей мамы, и дядя Сруль, ее муж, приходили к нам вечером пить чай. Мой отец и Сруль проводили бо́льшую часть времени за карточной игрой в пинокль, в которую мой отец играл превосходно и делал это очень оживленно и весело.
По случаю Песаха наша семья собиралась вместе в доме дедушки и бабушки, Герша и Доры Цимельс. Мы читали Хаггаду – рассказ о бегстве евреев из египетского плена, а затем наслаждались заботливо приготовленными моей бабушкой пасхальными блюдами, венцом была ее фаршированная рыба, которую я по-прежнему считаю самым вкусным блюдом на свете. Я особенно хорошо запомнил Песах 1936 года. За несколько месяцев до праздника тетя Минна вышла замуж за дядю Сруля, и я тоже присутствовал на свадьбе – помогал нести шлейф ее прекрасного платья. Сруль был довольно богат. Он основал успешное кожевенное предприятие, и его свадьба с Минной была такой изысканной, как ничто виденное мною раньше. Поэтому я был очень доволен доверенной мне ролью.
В первый пасхальный вечер я простодушно рассказал Минне, как мне понравилась ее свадьба, где все были так красиво одеты и еда была так сервирована. Я сказал, что эта свадьба была так прекрасна, что я хочу, чтобы у нее скоро была еще одна, чтобы я мог снова испытать это особое ощущение. Чувства Минны по отношению к Срулю, как я узнал впоследствии, оказались несколько противоречивыми. Она считала, что превосходит его в интеллектуальном и социальном плане, и поэтому сразу подумала, что я говорю не о самом событии, а о выборе ее спутника жизни. Она решила, что мне хотелось бы, чтобы она вышла замуж за кого-нибудь другого – быть может, более соответствующего ее уму и происхождению. Минна страшно рассердилась и прочитала мне длинную лекцию о святости брачных уз. Как я посмел предположить, что она так скоро захочет сыграть еще одну свадьбу, выйти замуж за кого-то другого? Как я узнал впоследствии, читая книгу Фрейда “Психопатология обыденной жизни”, фундаментальный принцип динамической психологии гласит, что бессознательное никогда не лжет.
Август, время летних каникул, мои родители и мы с Людвигом всегда проводили в Менихкирхене – фермерской деревушке в пятидесяти милях к югу от Вены. В июле 1934-го мы как раз готовились к отъезду туда, когда канцлер Австрии Энгельберт Дольфус был убит группой австрийских нацистов, переодетых полицейскими. Это была первая буря, отпечатавшаяся в моем зарождавшемся политическом сознании.
Подражая Муссолини, Дольфус, избранный канцлером в 1932 году, добился слияния христианских социалистов с Отечественным фронтом и установил авторитарный режим, выбрав в качестве эмблемы разновидность обычного креста, а не свастику, тем самым выражая приверженность христианским, а не нацистским идеалам. Чтобы обеспечить себе контроль над правительством, он отменил австрийскую конституцию и объявил вне закона все оппозиционные партии, включая нацистов. Хотя Дольфус и противостоял стремлению австрийского национал-социализма создать пангерманское государство, которое объединило бы весь немецкоговорящий народ, его отмена старой конституции и конкурирующих политических партий открыла двери для прихода Гитлера. После убийства Дольфуса, в течение первых лет правления его преемника, Курта фон Шушнига, австрийская нацистская партия была загнана еще глубже в подполье. Тем не менее она продолжала набирать сторонников, особенно среди учителей и других гражданских служащих.
Гитлер был австрийцем и жил в Вене. Он переехал в столицу из своего родного города Браунау-на-Инне в 1908 году в возрасте девятнадцати лет в надежде стать художником. Хотя у него и был некоторый талант живописца, после нескольких попыток ему так и не удалось поступить в Венскую академию художеств. Но в Вене он попал под влияние Карла Люгера. Именно на примере Люгера Гитлер впервые познакомился с властью ораторской демагогии и политической выгодой антисемитизма.
Гитлер с юных лет мечтал об объединении Австрии и Германии. В связи с этим программа немецкой нацистской партии, отчасти бравшей за образец австрийских нацистов, с самого своего возникновения в двадцатых годах включала пункт об объединении немецкоговорящего народа в Великую Германию. Осенью 1936 года Гитлер начал претворять этот пункт в жизнь. Придя в 1933 году к власти в Германии, в 1935-м он восстановил воинскую повинность, а в следующем году приказал войскам вновь занять Рейнскую область – немецкоговорящий регион, по условиям Версальского договора демилитаризованный и поставленный под надзор Франции. После этого его выступления стали агрессивнее, и теперь в них содержалась угроза нападения на Австрию. Шушниг мечтал умиротворить Гитлера, в то же время сохранив независимость своей страны, поэтому он отреагировал на угрозы, попросив Гитлера о встрече. Они встретились 12 февраля 1938 года в Берхтесгадене, вблизи австрийской границы, где Гитлер, движимый сентиментальными побуждениями, устроил себе частную резиденцию.
Демонстрируя силу, Гитлер прибыл на эту встречу в сопровождении двух генералов и угрожал вторжением в Австрию, если Шушниг не отменит ограничения, наложенные на деятельность австрийской нацистской партии, и не назначит троих нацистов на ключевые министерские должности. Шушниг отказался. Но Гитлер усилил давление, и в тот же день обессиленный канцлер в конце концов сдался, согласившись легализовать нацистскую партию, выделить ей два министерских портфеля, освободить нацистов, которых держали под стражей как политических заключенных. Но соглашение между Шушнигом и Гитлером только увеличило жажду власти у австрийских нацистов. Ставшие теперь группой немалых размеров, они вышли из подполья и бросили вызов правительству Шушнига, устроив несколько выступлений, которые полиции оказалось непросто подавить. Перед лицом угрозы гитлеровской агрессии извне и восстания австрийских нацистов изнутри Шушниг перешел в наступление и решительно объявил о референдуме, который должен был состояться 13 марта, всего через месяц после его встречи с Гитлером. Вопрос, вынесенный на этот референдум, был прост: должна ли Австрия остаться свободной и независимой, да или нет?
Этот смелый шаг Шушнига, высоко оцененный моими родителями, встревожил Гитлера, так как казалось почти несомненным, что референдум закончится победой сторонников независимости Австрии. Гитлер отреагировал, мобилизовав войска и пригрозив вторжением, если Шушниг не перенесет референдум, не подаст в отставку и не сформирует правительство, которое должен был возглавить новый канцлер – австрийский нацист Артур Зейсс-Инкварт. Шушниг обратился за помощью к Великобритании и Италии – двум странам, которые до этого поддерживали независимость Австрии. К ужасу венских либералов, таких как мои родители, ни одна из этих стран не отреагировала. Покинутый потенциальными союзниками, стремясь избежать бессмысленного кровопролития, вечером 11 марта Шушниг подал в отставку.
Несмотря на то что президент Австрии согласился на все требования Германии, на следующий день Гитлер начал вторжение.
Дальнейшее оказалось сюрпризом. Вместо толп возмущенных австрийцев Гитлера восторженно встречало ощутимое большинство населения. Как отметил Джордж Беркли, это резкое превращение граждан, еще вчера кричавших о своей верности Австрии и поддерживавших Шушнига, в людей, приветствующих гитлеровские войска как “германских братьев”, нельзя объяснить просто выходом десятков тысяч нацистов из подполья. То, что произошло, представляло собой скорее одно из “самых быстрых и полных массовых обращений в новую веру” во всей человеческой истории. Как писал об этом впоследствии Ханс Ружичка, “это – люди, которые рукоплескали императору, а затем проклинали его, которые приветствовали демократию после свержения императора, а затем аплодировали [дольфусовскому] фашизму, когда к власти пришел новый режим. Сегодня такой человек нацист, завтра он будет кем-нибудь еще”.
Австрийская пресса не стала исключением. В пятницу 11 марта Reichspost, одна из ведущих газет страны, поддерживала Шушнига. Два дня спустя та же газета на первой странице опубликовала редакторскую статью, озаглавленную “К исполнению”, в которой говорилось: “Благодаря гению и решимости Адольфа Гитлера час всегерманского единства настал”.
Злобные нападки на евреев, начавшиеся в середине марта 1938 года, достигли апогея восемь месяцев спустя, во время Хрустальной ночи. Когда я впоследствии читал об этом, я узнал, что отчасти ночь была вызвана событиями 28 октября 1938 года. В тот день нацисты депортировали семнадцать тысяч евреев, происходивших из Восточной Европы, бросив их на произвол судьбы возле городка Збоншинь на границе Германии и Польши. В то время нацисты по-прежнему рассматривали эмиграцию, добровольную или насильственную, как способ решения “еврейского вопроса”. Утром 7 ноября семнадцатилетний еврейский юноша Гершель Гриншпан, взбешенный депортацией его родителей в Збоншинь из их дома в Германии, застрелил Эрнста фон Рата, третьего секретаря посольства Германии в Париже, по ошибке приняв его за германского посла. Два дня спустя, используя это событие как предлог, чтобы обрушиться на еврейство, организованные толпы подожгли большинство синагог в Германии и Австрии.
Из всех городов, бывших под властью нацистов, Вена пала особенно низко. Над евреями издевались и жестоко били, выгоняли с предприятий и временно выселяли из домов, после чего их предприятия и дома грабили алчные соседи. Наша прекрасная синагога на Шопенгауэрштрассе была полностью уничтожена. Симон Визенталь, ведущий охотник за нацистами после Второй мировой войны, впоследствии говорил, что “по сравнению с Веной Хрустальная ночь в Берлине была милым рождественским праздником”.
В день Хрустальной ночи моего отца задержали, а его магазин конфисковали и передали новому владельцу, нееврею. Это делалось в порядке так называемой ариизации (Ariesierung) собственности – узаконенной нацистами формы грабежа. С середины ноября 1938 года, когда моего отца выпустили из-под стражи, до августа 1939-го, когда они с мамой уехали из Вены, мои родители очень бедствовали. Как я узнал намного позже, они получали продовольствие, а отец – иногда и возможность работать, например переносить мебель, от Israelitische Kultusgemeinde der Stadt Wien – Еврейской общины города Вены.
Мои родители знали об антиеврейских законах, введенных в Германии после прихода Гитлера к власти, и понимали, что насилие в Вене теперь едва ли утихнет. Они были уверены, что нам нужно уезжать, причем как можно скорее. Брат моей мамы, Берман Цимельс, лет десять назад переехал из Австрии в Нью-Йорк, где устроился работать бухгалтером. Мама написала ему 15 марта 1938 года, всего через три дня после вступления Гитлера в Вену, и он быстро прислал нам заверенные нотариусом письма, гарантирующие американским властям, что он обеспечит нас средствами к существованию в Соединенных Штатах. Однако в 1924 году Конгресс принял закон об иммиграции, устанавливавший квоты на число иммигрантов в Соединенные Штаты из стран Восточной и Южной Европы. Так как мои родители родились на территории, которая теперь входила в состав Польши, нам потребовалось около года дожидаться повышения квоты, несмотря на то что в нашем распоряжении были требуемые гарантийные письма. Когда размер квоты был наконец объявлен, нам пришлось эмигрировать поэтапно, тоже из-за законов об иммиграции, где оговаривался порядок, в котором члены одной семьи имели право въезжать в Соединенные Штаты. Согласно этому порядку первыми могли приехать родители моей мамы, что они и сделали в феврале 1939 года, затем, в апреле, мы с братом и, наконец, родители – в конце августа, всего за несколько дней до того, как разразилась Вторая мировая война.
Из-за того что у моих родителей отняли их единственный источник дохода, у нас не было денег на дорогу до Соединенных Штатов. Поэтому родители подали прошение в Еврейскую общину, чтобы им оплатили полтора билета на корабль компании Holland America Line: один билет для моего брата и полбилета для меня. Несколько месяцев спустя они подали прошение об оплате двух билетов для них самих. Нам повезло, что оба прошения удовлетворили. Мой отец был честным, добросовестным человеком и всегда вовремя платил по счетам. У меня сейчас находятся все документы, которые прилагались к его прошению, и они показывают, как исправно он платил свои членские взносы в Еврейскую общину. В аттестации, приложенной сотрудником общины к прошению отца, особо отмечается, что это человек достойный, с безупречной репутацией.
Последний год в Вене сыграл в моей жизни определяющую роль. Разумеется, он заронил во мне чувство глубокой, неизменной благодарности за жизнь, выпавшую мне в Соединенных Штатах. Но несомненно и то, что зрелище Вены под властью нацистов было также моим первым знакомством с темной, садистской стороной человеческого поведения. Как понять эту дикую жестокость, внезапно охватившую столь многих людей? Как могло высокообразованное общество так быстро принять политику карательных мер, в основе которой лежат ненависть и презрение к целому народу?
Ответить на эти вопросы сложно. Многие исследователи пытались предложить свои обрывочные и противоречивые ответы. Один из выводов, который будоражит мои чувства, состоит в том, что качество культуры того или иного общества не может служить надежным показателем его уважения к человеческой жизни. Культура просто не способна избавить людей от их склонностей и преобразовать их образ мышления. Стремление уничтожать людей, не принадлежащих к собственной группе, может быть врожденным и возбуждаться почти в любой сплоченной группе.
Я сильно сомневаюсь, что какие-либо из подобных псевдогенетических наклонностей могли бы работать в полном вакууме. Немцы в целом не разделяли озлобленного антисемитизма австрийцев. Почему же тогда культурные ценности венцев так кардинально разошлись с их моральными ценностями? Разумеется, поведение венцев в 1938 году во многом объясняется чистым оппортунизмом. Успехи еврейского сообщества – экономические, политические, культурные и академические – вызывали зависть и жажду мести у неевреев, особенно в университетской среде. Процент членов нацистской партии среди университетских преподавателей намного превосходил таковой среди населения в целом. В результате венцы-неевреи стремились продвинуться в своей профессии, заняв места преуспевших евреев, – и евреи, работавшие университетскими преподавателями, юристами и врачами, быстро остались без работы. Многие венцы просто присвоили себе жилье и имущество евреев. В результате, как показало подробное исследование этого периода, которое провели Тина Вальцер и Штефан Темпль, “большое число адвокатов, судей и врачей в 1938 году повысило уровень собственного благосостояния, ограбив своих ближних – евреев. Успех многих австрийцев в наши дни основан на деньгах и собственности, украденных шестьдесят лет назад”.
Еще одно объяснение этого расхождения культурных и моральных ценностей связано с переходом от культурной формы антисемитизма к расовой. Культурный антисемитизм основан на представлении о “еврейскости” как религиозной или культурной традиции, передаваемой путем обучения, через особые обычаи и образование. Эта форма антисемитизма приписывает евреям определенные отталкивающие психологические и социальные особенности, приобретаемые путем усвоения культуры, например неодолимое стремление к наживе. Однако такой антисемитизм также предполагает, что, поскольку еврейскость приобретается воспитанием в еврейской семье, эти особенности можно и устранить через образование или обращение в иную веру, когда еврей или еврейка преодолевает свое еврейство. Еврей, обратившийся в католицизм, в принципе может быть ничем не хуже любого другого католика.
Считается, что расовый антисемитизм, напротив, происходит из убеждения, что евреи как раса генетически отличаются от других рас. Это представление восходит к доктрине богоубийства, которой долгое время учила Римско-католическая церковь. Как доказывал Фредерик Швейцер, католик, изучавший историю евреев, эта доктрина и положила начало представлениям о том, что евреи повинны в смерти Христа (до недавнего времени Католическая церковь не отрекалась от этих представлений). Согласно Швейцеру, эта доктрина предполагала, что евреи, виновные в богоубийстве, как раса обладают врожденным недостатком человечности и поэтому должны генетически отличаться от других людей, быть недолюдьми. Значит, их можно без сожаления исключить из числа человеческих рас. Расовый антисемитизм был обоснован испанской инквизицией в начале xiv века и воспринят в семидесятых годах xix века некоторыми австрийскими (и немецкими) интеллектуалами, в числе которых были Георг фон Шенерер, лидер пангерманских националистов в Австрии, и Карл Люгер, венский бургомистр. Хотя до 1938 года расовый антисемитизм и не был в Вене господствующей политической силой, после марта этого года он приобрел статус официальной государственной политики.
После того как расовый антисемитизм пришел на смену культурному, ни один еврей уже никак не мог стать “истинным” австрийцем. Обращение (религиозного свойства) стало невозможным. Единственно возможным решением еврейского вопроса оставалось изгнание или истребление евреев.
Мы с братом выехали в Брюссель на поезде в апреле 1939 года. Мне, девятилетнему, было очень тяжело покидать родителей, хотя отец не терял оптимизма, а мама невозмутимо уверяла, что все будет в порядке. Когда мы доехали до границы Германии с Бельгией, поезд ненадолго остановился, и в вагон вошли немецкие таможенники. Они потребовали, чтобы мы показали им ювелирные изделия и любые другие ценные вещи, которые могли у нас быть. Молодая женщина, ехавшая вместе с нами, предупреждала нас с Людвигом о возможности такого требования. Поэтому я спрятал в кармане небольшое золотое колечко с моими инициалами, подаренное мне на семилетие. Страх, который я всегда испытывал в присутствии нацистов, стал почти невыносимым, когда они зашли в поезд, и я очень боялся, что они найдут это колечко. К счастью, они не обратили на меня особого внимания, и я остался дрожать незамеченным.
В Брюсселе мы остановились у тети Минны и дяди Сруля. Солидные финансовые средства дали им возможность приобрести визу, позволившую въехать в Бельгию и поселиться в Брюсселе. Они собирались переехать к нам в Нью-Йорк через несколько месяцев. Из Брюсселя мы с Людвигом поехали на поезде в Антверпен, где сели на пароход “Герольдштейн” компании Holland America Line и через десять дней прибыли в город Хобокен в штате Нью-Джерси, проследовав мимо гостеприимно приветствовавшей нас статуи Свободы.
3. Американское образование
Приехав в Соединенные Штаты, я словно заново родился. Я еще не предвидел этого и не знал языка, чтобы сказать: “Free at last”[4], но сразу почувствовал, и чувство это осталось во мне навсегда. Джеральд Холтон, историк науки из Гарвардского университета, отметил, что для многих венских эмигрантов моего поколения полученное в Вене отличное образование в сочетании с чувством освобождения по прибытии в Америку высвободили безграничную энергию и вдохновили нас на то, чтобы мыслить по-новому. Это в полной мере относится и ко мне. Среди многого другого, что дала мне эта страна, было превосходное гуманитарное образование, полученное в Еврейской школе Флэтбуша, средней школе Эразмус-холл и Гарвардском колледже.
Мы с братом поселились у маминых родителей, Герша и Доры Цимельс, приехавших в Бруклин в феврале 1939 года, за два месяца до нас. Я совсем не говорил по-английски и чувствовал, что мне нужно приспосабливаться к новой жизни. Поэтому я отбросил последнюю букву моего имени, Эрих (Erich), и стал пользоваться им в нынешнем написании. С Людвигом произошло еще более серьезное превращение – в Льюиса. Наши тетя Паула и дядя Берман, жившие в Бруклине с тех пор, как в двадцатые годы они приехали в Соединенные Штаты, устроили меня в государственную начальную школу № 217, расположенную в квартале Флэтбуш недалеко от дома, где мы жили. Я ходил в эту школу только двенадцать недель, но к началу летних каникул уже умел достаточно хорошо говорить по-английски, чтобы меня понимали. В то лето я перечитал книгу Эриха Кестнера “Эмиль и сыщики” – одну из любимых книг моего детства, на этот раз на английском, и был искренне горд этим достижением.
Мне не очень нравилось в школе № 217. Туда ходили и многие другие еврейские дети, но я тогда этого не понимал. Мне как раз казалось, что, раз среди учеников так много светловолосых и голубоглазых, значит, они не евреи, и я боялся, что рано или поздно они станут относиться ко мне враждебно. Поэтому я охотно поддался на уговоры дедушки и перешел в еврейскую приходскую школу. Дедушка был весьма религиозным и ученым человеком, хотя и немного не от мира сего. Мой брат сказал, что наш дедушка – единственный известный ему человек, который умеет говорить на семи языках, но на всех говорит так, что ничего не понятно. Дедушка мне очень нравился, а я нравился ему, и он без труда убедил меня в течение лета заниматься с ним ивритом, чтобы осенью я мог поступить в Еврейскую школу Флэтбуша. В программу этой знаменитой дневной еврейской школы входили уроки светских дисциплин на английском и религиозные занятия на иврите, и то и другое с очень высоким уровнем требований.
Дедушкины уроки позволили мне осенью 1939 года поступить в эту школу. Когда в 1944 году я ее окончил, я знал иврит почти так же хорошо, как английский. Я прочитал на иврите Пятикнижие, Книги Царств, Книги Пророков и кое-что из Талмуда. Впоследствии я почувствовал и радость, и гордость, когда узнал, что Барух Бламберг, который в 1976 году удостоился Нобелевской премии по физиологии и медицине, тоже был из числа людей, получивших прекрасное образование в Еврейской школе Флэтбуша.
Мои родители уехали из Вены в конце августа 1939 года. Незадолго до их отъезда моего отца еще раз арестовали и привезли на Венский футбольный стадион, где допрашивали и запугивали “коричневые рубашки” из Sturm Abteilung (SA). Но после того, как выяснилось, что он получил американскую визу и собирается уехать, его освободили, и это, возможно, спасло ему жизнь.
Когда мои родители приехали в Нью-Йорк, отец, который ни слова не знал по-английски, нашел себе работу на фабрике, производившей зубные щетки. В Вене зубная щетка была символом его унижения, но в Нью-Йорке с нее начался его путь к лучшей жизни. Хотя ему и не нравилась эта работа, он взялся за нее со своим обычным рвением и вскоре получил выговор от представителя профсоюза за то, что делал очень много щеток за единицу времени, создавая впечатление, что другие работают слишком медленно. Но отца это не остановило. Он всей душой полюбил Америку. Как и многие другие иммигранты, он нередко называл ее goldene Medina – золотой страной, сулившей евреям безопасность и демократию. Еще в Вене он читал романы Карла Мая, мифологизировавшие покорение американского Запада и храбрость американских индейцев, и им тоже по-своему овладел дух Фронтира.
Со временем мои родители накопили достаточно денег, чтобы взять в аренду и обустроить скромный магазин одежды. Они работали вместе, продавая простые женские платья и фартуки, а также мужские рубашки, галстуки, нижнее белье и пижамы. Мы сняли квартиру над этим магазином, в доме номер 411 по Черч-авеню в Бруклине. Родители зарабатывали достаточно не только для жизни, но и на то, чтобы через некоторое время выкупить дом, в котором находились магазин и квартира. Кроме того, они смогли оплачивать мое обучение в колледже и медицинской школе.

