
Земля случайных чисел
«Главных людей не бывает, – сказал как-то Михаил. – Ты такая умная, хорошая девочка, а главные люди – ну что такое главные люди? Путин – главные люди? Сталин – главные люди? Они и без нас в водяную яму спустятся, эти главные люди, для них уже давно эти ямы приготовлены, а ты живи и танцуй, у тебя три смены впереди» (нет, разве он это сказал? разве он это сказал? разве он это сказал?). Как-то приехала и топором ломала дверь, потому что он уже замки сменил, я его тогда преследовала немного. Именно тогда он меня ударил, но это не считается за эпизод рукоприкладства, потому что вот я, стою, с топором в руке, и не могу его поднять, потому что дверь открылась сама, без моего вмешательства, – и, пока он замахивался, я прожила целую отдельную жизнь, связанную исключительно с невозможностью взмахнуть топором и обстоятельным анализом этой невозможности (магистратура, PhD по сравнительному литературоведению, специализация исключительно на убийствах топором в мировой литературе, вела курсы в Бостонском университете, Принстоне и Йеле, написала три монографии), а потом эта жизнь закончилась глухим костным шлепком, и я очень спокойно, очень вслух сказала: «Все нормально, ты просто оборонялся, это не считается», хотя жизнь все равно закончилась. Это нормально, что он мне не писал совсем, не отвечал, забанил меня везде, и даже общие друзья молчали, не признавались, как будто и не было Михаила никогда.
И когда я приезжала в Будапешт, я так и представляла, как столкнусь с ним на ночной пустынной улочке около собора Святого Иштвана и в ответ на его вскинутые, как руки вверх, брови выстрелю безразличным: «А помнишь, как ты говорил, что я обязательно встречу того самого человека?»
Но так и не встретила. Эти поездки в Будапешт были самыми идиотскими и бессмысленными выходными в моей жизни – имеется в виду та жизнь, которая линейная, объективная. Зато в нынешней, посменной жизни выходные у меня полны волшебства! Где я только не встречала Михаила! Оказывается, за все эти бесплотные дни я так основательно исходила город, что наши случайные встречи никогда не повторялись географически, – моя память выводила наружу всё новые и новые нити, пути, перекрестки, и даже пустой январский Обудайский остров, уставленный уставшими концертными площадками, превратившимися в заснеженные поля для будущего весеннего гольфа, непременно дрожал, туманился и выпускал из клубящихся дунайских вод знакомую фигуру в черном плаще, и вот я уже набираю в рот (воздуха? черной прибрежной воды?), чтобы сказать: «Смотри-ка, какого человека я встретила!» (и уже знаю, что сейчас помчим в гостиницу).
Сегодня я решила изменить течение выходного и не разыскивать Михаила в Будапеште, а вместо этого сесть и записать это все. Лэптопа у меня нет, я оба раза приезжала, к сожалению, без лэптопа, но в холле гостиницы есть интернет-точка, несколько компьютеров, подключенных к сети (такое действительно в те годы существовало, наверное, это был то ли 2008-й, то ли 2009-й). Записывать происходящее в виде текста можно – от этого мир не ломается (видимо, дело в том, что текст все равно обнуляется с приходом следующего рабочего дня). Мне кажется, что, если я успею дописать все целиком и отправить, скажем, на свой же собственный email-адрес, что-то может сработать либо поменяться.
Уже в три часа дня мне позвонил Михаил, хотя телефон мой был в выключенном роуминге, а номер мой он наверняка удалил и забанил.
– Я знаю, что ты в Будапеште, – сказал он ледяным, как тогда, голосом. – Мне сказали общие знакомые, что ты приперлась. Чего ты от меня хочешь?
– Ничего, – сказала я. – Они ошиблись. Ты меня не увидишь, честное слово.
И положила трубку – у меня не очень много времени; я должна записать сразу всё, и на это есть ровно день.
Михаил звонил еще 20 раз – я нашла 20 неотвеченных вызовов от него, пока писала все расположенное выше. Еще мне от него пришло четыре смс-сообщения.
«Хорошо, мы можем встретиться, если ты так хочешь. Где ты остановилась? Я могу приехать».
«В каком ты отеле? Мне срочно надо тебя видеть».
«Ты снова думаешь, что ты самая умная? Я знаю, где ты».
«Я тебя найду, сука».
Оказалось, что Михаил не очень-то хочет, чтобы я все записывала.
Тут же пришло еще три сообщения:
«грязи, выход триста семьдесят, вытесать, нож взял уже, мы у нас на корабле концерт танцевали, вытекли грязи уже, вытекли ножи, концерты вытекли и корп»
«поперек Дуная налево»
«это навигация»
Оказалось, что, когда я все записываю, ломается не мир, а Михаил.
Я вышла во внутренний дворик-колодец, закурила. День почти заканчивался, а мне нужно успеть. Михаил тут же немного починился и написал мне: «Я тебя найду. Не спрячешься от меня».
Я ответила: «Давай встретимся через час на мосту Петефи, ровно посередине».
«Ты врешь», – ответил Михаил.
«Мне нужно доделать одну штуку по работе», – написала я.
«Ты снова врешь. У тебя выходной», – ответил Михаил.
Я не могу ответить ему правду, потому что, если я это сделаю, все будет ломаться, мир будет ломаться и текст тоже будет ломаться. Я бегу в холл и смотрю на свой текст – он действительно уже немножко ломаный, но в целом разобрать можно, наверное, дело в том, что написан он поспешно и судорожно.
«Я уже выяснил, где ты, – пишет Михаил, и его сообщения высвечиваются на экране, как свежие ожоги. – Ты в полном порядке. Ближайшие минут тридцать, пока я до тебя не доеду. Я уже выехал».
Я могла бы убежать, но мне нужно дописать этот текст, и, если я успею это сделать до того, как он приедет, возможно, у меня получится как-то избежать того, чего в моей ситуации избежать нельзя: встречи, встречи, встречи.
Я не очень понимаю, в какой из жизней я получу письмо с этим текстом (если это история про разные жизни, в чем я не уверена) и как это письмо мне поможет, но уверена, что поможет. Впрочем, я не уверена, что поможет лично мне прямо сейчас, в этой ситуации, когда Михаил-на-колесиках уже знает мою улицу и номер дома и прямо ко мне в квартиру едет.
Wi-Fi работает, я без труда вхожу в свой ящик (память по выходным работает так идеально, что я помню все свои пароли десятилетней давности), вижу там несколько входящих сообщений от Михаила. Все они без темы, поэтому их содержание как бы наползает на тему и вздувается пузырями поверх уже готовых, свеженапечатанных ожогов.
«Не делай этого, иначе ты больше никогда в жизни меня не увидишь. Тебе этого хочется? Тебе действительно этого хочется?»
«Ты сама этого хотела, и теперь ты готова от этого отказаться?»
«Хорошо, просто иди поднимись в свой номер. Жди меня там. Я угадаю цифру. Помнишь, я всегда угадывал. Это почти как случайно столкнуться на улице – помнишь, как мы об этом говорили? Помнишь, что было до этого? Я снова хочу все это с тобой сделать».
И потом: «Прости меня».
И еще одно: «Сука, я тебя убью, слышишь?»
И еще: «Можешь закрыться, у меня топор».
И еще: «На самом деле это ад».
И потом: «Прости, я просто умер, и мне тяжело. Я не знаю, зачем я тебя мучаю. Пожалуйста, поговори со мной. Нам надо поговорить. Я тебе все объясню. Просто иди в свой номер прямо сейчас и жди меня. Я все тебе объясню, ты наконец-то все узнаешь, ты наконец-то узнаешь все, что происходит, только иди в номер, иди, бля, в номер немедленно, иди в номер, бля».
Я не пошла в номер.
Я записала все его сообщения.
Я еще должна добавить одно уточнение: это действительно не ад и не лимб. Это не смерть, никто не умер. Если ты обнаружишь себя в такой же ситуации, запиши все происходящее в свой выходной и не откладывай, потому что у тебя есть ровно один день для того, чтобы все записать, и чем дольше ты откладываешь этот день, тем неподъемнее и невыносимее – и, следовательно, дальше от осуществления и спасения – оказывается возможность его записать (уже отчасти невозможность, понимаешь?).
«Я уже практически здесь, не отправляй ничего», – написал он.
Ну-ну, конечно. Поздно. Я успела.
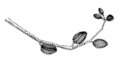
Она отдает мне распечатку текста на десяти листах, я отдаю ей чек на $ 5800: в договоре прописано, что в случае удачного терапевтического эпизода с отделенной памятью-самописцем я оплачиваю услуги терапии в полном объеме.
– Спасибо, – говорю я. – Тут до фига текста.
– Он может быть довольно запутанным, – говорит она. – Она не сразу поняла, что нужно сделать, очень много времени прошло, а чтобы все записать, у нее был только один день, выходной, мы же такие параметры задавали, в вашей ситуации и с вашей проблемой только такие подходят.
– Да, спасибо, – повторяю я. – Я могу почитать дома? Там правда будет какое-то разрешение всего? Я наконец-то смогу понять? И мне не нужно это потом с вами разбирать?
– Конечно, если что-то непонятно будет, можете взять дополнительную консультацию, но я сейчас просмотрела текст, там все в порядке, это необязательно. Там, кажется, уже все, все разрешилось. Всего хорошего, у меня уже сейчас следующий человек придет, вы звоните потом, если что-то непонятно. Но там все понятно уже, поверьте.
Я просматриваю текст, и мои глаза наполняются слезами.
– С ума сойти, – говорю я. – Вы уверены, что никто как бы не пострадал, ну? Что это все не… то есть это же просто текст, правда? Это же не… ну, понимаете?
– Конечно, конечно, – отвечает она. – Это просто текст. Ничего такого.
И закрывает за мной дверь. И очень жаль, жаль, жаль, что у меня нет топора.
Мистер светлая сторона
…Потом расплакалась на заправке: изящно и ровно, как на тренировке по йоге, уселась на пол, закрыла бледными пальцами лицо и замерла на несколько секунд.
Ее плечи вздрогнули, из-под пальцев что-то привычно брызнуло. Павлик поставил стаканчики с кофе на кафельный пол цвета влажной взрослой кожи, осторожно потрогал кончиками пальцев ее за костлявые гусиные плечи.
– Пойдем, не здесь. Ну что ты прямо здесь. Успокойся, пожалуйста. Тут же люди.
Саша вскочила и отпрыгнула от него резким, оленьим движением, как, должно быть, полумертвая лань отшатывается, словно от ватного призрака собственного небытия, от внимательного человека с ножом, осторожно придерживающего ее за шею, чтобы освежевать, освободить от зарождающейся жмучести души, стесненности мышечного существа дрожащим кожистым жилетом.
– Не смей меня трогать! – закричала она. – Ты постоянно меня трогаешь, вот как сейчас, руками, обнимаешь, по голове гладишь, ну неужели не понятно, что нельзя, нельзя, что мне плохо, больно, что это мне напоминает все, чего уже не будет, не будет!
– Тихо, – сказал Павлик, – все будет, только тихо. Пожалуйста, Сашенька. Тут же люди.
Людей было немного: сонная ночная продавщица, утло и сладко заваливающаяся куда-то за штору, да пара промасленных дальнобойных мужиков, в мглистых вершинах бледных полок задиристо выбирающих машинное масло и сосиски, по некоей странной причуде, вероятно сознания этой дебелой спящей красавицы, расположенные в соседних отсеках, как товарищи-космонавты, готовые вот-вот вылететь на орбиту безбрежной дорожной дружбы – кто-то в желудке, кто-то в моторе, не важно.
– Не важно, – прошептал Павлик. – Сашенька, ну пожалуйста, успокойся, я же тут, с тобой.
– Ты вечно просишь меня успокоиться! – разрыдалась Саша уже громко, и дальнобойщики, похожие на космических пиратов в кепках, уже начали медленно разворачивать свои широкие обветренные торсы в их сторону, держа масла и сосиски наперевес, будто галактическое оружие. – Ты и успокаиваешь-то меня не потому, что тебе меня жалко! Это не сочувствие! Это эгоизм! Ты хочешь меня лапать, трогать, обнимать, да? А когда тут, при людях – стыдно, да? Неловко, что я плачу? То есть я должна быть такой удобненькой? Я тебе нужна, когда я удобненькая, да?
Павлик отошел от Саши на пару шагов и беспомощно оглянулся, будто проверял, замечено ли внимательным окружением его предательство, – да и откуда вообще взялось это слово, предательство, неужели он его сам помыслил, или Саша уже отправила ему этот пылающий, мучительный взгляд, в котором плясали огни обвинения. Мужики, будто на войне, помахали ему – или Сашиному обвинительному пламени – сосисочным огнеметом: что-нибудь нужно?
– Ты специально отошел, чтобы я кричала? – завизжала Саша на весь магазин. Голос у нее был звонкий, как колокольчик. – Чтобы я как бы громче говорила? Да? Ты поэтому?!
– Нет, – тихо сказал Павлик, и его всего свело, как будто огненная судорога пробежала по всему пространству, слегка опалив и его самого. – Саша, пожалуйста, пойдем в машину. Я тебя очень прошу. Саша, умоляю, не кричи. Пожалуйста, не ори, пожалуйста, Саша, Сашенька, не ори.
– Тебе за меня стыдно, – дрожащим и обвиняющим голосом резюмировала Саша. – Ему тоже было за меня стыдно. Всем за меня стыдно. Это нормально. Я приеду домой и покончу с собой. Я приняла решение. Здесь, на этой чертовой заправке, мое решение оформилось и вызрело. Спасибо тебе, Павел. Спасибо. Ты молодец. Ты супергерой. Ты клевый. Поздравляю.
И, пошатываясь, побрела к выходу. Павлика снова всего передернуло – будто пространство той своей судорогой покатило за ней, за Сашей, – но взял себя в руки, поднял с пола стаканчики с кофе и поплыл к красной кассовой портьере, в которую, как восточная принцесса, куталась продавщица снов, – сомнологическую часть ее статуса он осознал позже, когда выяснилось, что она совершенно не может посчитать два кофе, путаясь и яростно вытирая пальцем что-то невидимое и крупное в уголке черного, раскочегаренного шальной тушью глаза. Он, расслабленный очевидным неучастием восприятия сонной принцессы в происходящем вокруг, вложил в ее другую руку пару ровненьких, выглаженных купюр и вышел в ночь. Из стаканчиков шел теплый, лошадиный пар.
Саша сидела на корточках около машины и плакала.
– Я принес тебе кофе, – сказал Павлик. – Ну что ты. Выпей, нам еще триста километров ехать.
– А потом мне еще всю жизнь как-то жить! – пробормотала Саша сквозь слезы. – И не с тобой, даже не думай. Хищник, стервятник, дрянь. Налетел на меня, как на падаль. Как на падаль, да? А при людях трогать боишься, конечно же: это не мое, это не со мной. Отошел сразу! Я видела, сразу отошел.
– Мне неловко, когда при людях на меня кричат, – смутился Павлик. – Я от такого сразу зверею. Не знаю, отчего такое. Сразу хочется спрятаться и убежать.
Саша плакала вот уже десять минут подряд: оставалось совсем немного.
Павлик с чудовищным стыдом осознал, что за эти три дня привык к ее всплескам отчаяния: Саша рыдала где-то раз в пару часов, всей душой отдаваясь этому занятию на десять-двенадцать минут. Потом вынимала трясущейся рукой из сумочки пузырек «Новопассита», делала широкий и жадный похмельный глоток, вытирала лицо уже насквозь мокрым платком и кивала Павлику: все, перерыв. Павлик, разумеется, знал, что Саша будет почти все время плакать, но все равно предложил ей съездить с ним в Ригу – рабочая поездка, резвый корпоративный автомобиль с кожаными сиденьями, номер в гостинице, сосны и море, я пойду на конференцию, а тебя отвезу к морю, будешь там целый день гулять и пить смородиновый бальзам из глиняной бутылочки, как ты любишь, ты же так любишь?
– Все ты помнишь, как я люблю, – зло сказала тогда Саша. – Хищный такой нацелился. Но мне нечего терять, если тебе хочется, я могу съездить, почему нет, все равно никому уже не интересно, где я, что я, куда я поехала. Я буду все время плакать, это ничего?
Павлик ответил, что, конечно же, это ничего, но Саша мрачно пробормотала: да-да, ничего, он тоже говорил, что всё ничего, а потом ты меня тоже бросишь, знаем.
Сашу бросил упырь Вадим. Упырь жил с Сашей и ел ее пять долгих мучительных для как минимум Павлика лет, а потом совершенно внезапно сообщил уже немеющей, уже дрожащей от вводных, мягких первых его серьезных слов Саше, что какая-то Инесса уже полгода как ждет от него малыша, и пора уже собирать вещички, жениться, знакомиться с будущими родственниками, и вообще неудобно портить жизнь хорошему человеку Александре, и так последнее время был рядом исключительно из жалости. Саша не верила, смеялась, переспрашивала: точно? Это точно? Она была уверена, что они с Вадимом вот-вот поженятся: последние три года из пяти ходила тихая, пьяноватая от сжимающего челюсти мучительного предчувствия несчастья, идущего вразрез с ее яркой, царственной уверенностью в грядущей плодоносной семейности. Теперь цветущий поезд плодородия гремел по чьим-то чужим рельсам, а Саша оказалась ненужной, но принять это у нее не получалось: это правда, спрашивала она у всех, в том числе и у Павлика, это точно, ты думаешь, это действительно так? Может быть, он придумал это все про Инессу, потому что решил, что я недостаточно сильно его любила, и решил уйти вот так, чтобы не мучаться?
– Придумал, конечно, – поддакивал Павлик, прекрасно понимая, что упырь Вадим превратил Сашу – его смешливую, смелую Сашу! – в рыдающую скорбную тень, в получеловека, в пустую оленью шкуру, которую он, Павлик, теперь должен наполнить своей заботой и любовью, чтобы Саша ожила.
Саша не оживала. Несколько недель она просто пролежала в кровати: в застиранной домашней одежде, с жирными волосами, затянутыми в кокетливый злобный хвостик. Павлик приходил, приносил хрустящие картонные пакеты из супермаркета, шуршал целлофаном на кухне, уговаривал Сашу поесть.
– Откармливаешь, – улыбалась Саша сквозь слезы, размахивая вилочкой. – Пять лет ждал, да? Только и ждал, когда я освобожусь, чтобы сразу же наброситься. Ничего не выйдет. Жизнь моя закончилась, больше ничего нет. Омлет плохой. Он меня научил отличать хороший от плохого. Вообще научил хорошее от плохого отличать. Я плохой, негодный материал. Я не знаю, зачем ты со мной возишься. Я никогда с тобой не буду. Ты мне весь противен совсем, ты чужое, ты не то. А то, что ТО, – оно тоже уже не то. Я всё, всё.
И Павлик уносил омлет на кухню и долго думал, как поступить с увечным страдальцем: съесть самому, упрятать, как труп, в черный мусорный пакет или соскрести с тарелочки в унитаз – что правильнее? Он действительно никогда в жизни не готовил, все шарился по общепитам, да иногда наколдовывали ему противные жирные борщи с говяжьим пульсирующим сердцем какие-то давние длинноногие гостевые дамы.
– Чай горький! – отчаянно и беспомощно пищала Саша из спальни, и Павлик снова бежал к ней, выхватывал из ее рук зловредного чайного врага, безуспешно пытался гладить Сашу по жирной голове, отчего она дергалась, визжала и кричала что-то про хищную птицу Павла, уже кружащую над сладкой искушающей падалью.
То, что она согласилась в этом состоянии куда-то поехать, Павлик воспринял как закономерное улучшение: Саша действительно два дня гуляла где-то у моря (он высаживал ее поутру на полупустой ветреной набережной, аккуратно вешая ей на спину рюкзак с термосом, бутербродами и заветной крошечной глиняной бутылочкой, вечером забирал и вез в гостиницу, где она долго плакала перед сном, уткнувшись в стену), один раз искренне восхитилась какими-то маленькими зелеными пирожными в хипстерском экокафе (и съела одно, восторженно ковыряя его фарфоровой ложечкой, но потом скривилась, сказала: «Черт, я как будто на минуту забыла о том, что моя жизнь кончена», – и снова расплакалась, но был проблеск счастья, отметил Павлик, был!), казалось, чувствовала себя лучше от этих многочасовых прогулок.
Хуже всего ей становилось в дороге. Она цепко вертела тонкими длинными пальцами напряженные костяные рукоятки радиоприемника, будто натягивая, вытягивая из космоса нитяную кровавую волну боли, и, триумфально расплетая пальцами уже сотканное полотно отчаяния, откидывалась на спинку сиденья, подвывая в потолок: это та самая песня! Она актуализирует мою личность, которую он убил и уничтожил! Все, что во мне болит, – это я сама! Потом слова оставляли ее, и она, наполняя все окружающее опасными, угрюмыми тектоническими вибрациями, начинала бубнить: останови машину, срочно останови, а то я выбью стекло или выпрыгну.
Обратно уже наученный опытом Павлик ехал тихими проселочными дорогами – на трассе останавливать машину было крайне неудобно, и приходилось блокировать двери, стараясь не замечать, как Саша явно назло ему, как птица, мстительно бьется лбом о кучно исписанное белесыми прощальными посланиями ночных насекомых стекло. Дело сразу пошло на лад: Саша благодарно и торжественно, как в театре, распахивала дверь и размашисто убегала с громкими рыданиями в ржаное поле, где кидалась ничком в колючие злачные объятья. Когда Павлик поднимал ее, невесомую и призрачную, она визжала: «Не прикасайся ко мне! Не смей!» – и Павлик инстинктивно оборачивался: не идет ли угрюмый мужик с острой косой краем поля, не примет ли бесхитростный пейзанский разум Сашино горе за призрак насилия, не сносить ли ему, Павлику, своей сочувственной головы.
– Это не сочувствие, – говорила Саша, поднимая откуда-то из гущи колосьев увесистый гранитный шар. – Это ты не головой мне сочувствуешь, Павел, а другим органом, а каким, я тебе этого не скажу. А камень я с собой беру на случай самообороны. Знаю я эти штуки: помочь, спасти, выручить, а сам все наблюдаешь, в какой момент удачно пристроиться бы, да?
Потом Саша начала выносить камни буквально с каждого поля, в которое она убегала поплакать. Это стало чем-то вроде ритуала. Павлик никак это не комментировал, рассудив, что это может быть неким защитным кульбитом изможденной Сашиной психики.
– Главное, чтобы тебе стало легче, Сашенька, – кивал он, когда растрепанная Саша тащила из гречишных зелененьких полей большой и тяжелый, как смерть, треугольный камень, похожий на наконечник древнего копья.
– Станет-станет, – зло говорила Саша. – Ты только потому и хочешь, чтобы мне стало легче, чтобы тут же сети свои расставить липкие. Кому нужна такая рёва, и правда. А вот как полегче станет – буду веселая, радостная, – тут-то, конечно, приятно будет к такой-то веселой, радостной яйца-то подкатить, да? Я понимаю.
Павел ужасно смущался таких разговоров, краснел, робел, резко жал на газ, и Саша начинала обиженно, сквозь слезы, хохотать: как ты, Павел, мощно жмешь! Это ты, наверное, представляешь меня уже готовенькой, излечившейся, да? Кружишь все надо мной, да? Когда дозреет мясцо, скорей бы. И будешь лечить, и заботиться, и ухаживать – только бы дозрело, только бы наконец-то вонзить все когти и огромный костяной клюв, да?
– Поспи, – отвечал Павлик. – Просто постарайся успокоиться и поспать.
– Ну-ну, знаем, – бубнила Саша и тут же засыпала, и Павлик ехал блаженные час-полтора в полной тишине, пока Саша не просыпалась кошачьим розовым комочком сладкого беспамятства, не потягивалась всей былой, гордой и веселой Сашей и не вспоминала вдруг целиком и разом – будто стальной занавес рухнул, подломив все ее сонно потрескивающие птичьи косточки, – что жизнь ее тоже рухнула вся целиком. И тут же принималась отчаянно, горько плакать: как же так, сколько еще лет так просыпаться, когда первые мгновения ты счастлива, будто в детстве, а потом вдруг вспоминаешь всю свою биографию разом и понимаешь, что все, счастья не будет никогда, вот бы все забыть сразу и целиком.
Пару раз Сашу даже тошнило от слез, и Павлик вытирал кожаные сиденья ароматизированными филигранными платочками «алоэ вера» и «майский ландыш», пока Саша убегала в цветущие июньские поля за очередной порцией терапевтических камней. Бросала куда-то на половички под задними сиденьями с кривой ухмылочкой (камни гремели, будто кукольный обвал и катастрофа), обиженно цедила: ну да, конечно, все вытер, все убрал, такой всепрощающий, только и ждет, когда же я наконец-то забуду этого упыря и повисну у тебя на шее, и все пять лет отирался где-то рядом, выжидал, горя моего ожидал, смерти моей ожидал – а, нет? Почему глаза отводишь? Ты разве не признаешь, что то, чего ты так ожидал, для меня – смерть, небытие? Теперь видишь, что так и есть? А, неловко тебе? Что, думал про пламенную страсть на вишневых одеялах в приморском отеле? Да вот, тяжело, конечно, что мы как-то посложнее вас устроены!
И камни согласным рокотом гремели, роптали где-то позади, как угрюмое воинство, готовое чуть что защитить и спасти безвозмездно и бескорыстно, а не с подленьким, гаденьким душком надежды, которую уставший от бесконечных Сашиных обвинений Павлик, казалось, уже и сам начал в себе подозревать: в самом деле, зачем он так мучительно возится с ее невыносимой мукой? Из приличествующей всякому человеку христианской жалости – или из мутного, как похмелье, непростительного желания впиться губами в ее изогнутый в страдальческой гримаске тоненький нитяной рот, изрыгающий проклятия пополам со стенаниями?
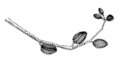
– Едем, – сказала Саша ровно через две минуты: всего двенадцать, как положено. – Едем, я хочу утром быть дома, я чудовищно устала.
Кофе остыл, Павлик тоже немного остыл. К заправке подъехал большой семейный автомобиль, из которого выбежали упругие, как сосиски, папа-мама и троица образцовых деток-пирожочков: Павлик вдруг с абсолютным, арктическим, марсианским ужасом, заковывающим все его тело в ледяной айсберг, понял, что мысленно ликует оттого, что цветущая сосисочная братия ленилась поднажать, мчала расслабленно и валко, не став свидетелем его позорной роли робкого мямли, услужливого рохли, на которого высокая, стройная и отчаянно красивая в своем разрушительном горе Саша звонко, как жаворонок, орет среди белых полок.

