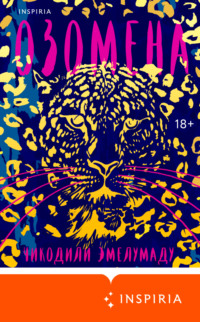
Озомена
У меня так громко урчит в животе, что даже крысы пугаются – перестают грызть дощечку у нас под дверью и убегают.
А потом на следующее утро я обнаруживаю возле задней двери коробку, заклеенную скотчем. Я даже к ней не прикасаюсь и не принюхиваюсь, а пытаюсь разбудить маму. Но это почти невозможно, если только она сама не проснется. С ней справлялась только тетушка Оджиуго, но и ей приходилось постараться. Но я все равно тормошу маму: ведь происходящее мне не осилить в одиночку, мне так нужна моя мамочка.
– Мама, мама, проснись.
Мама зовет во сне отца, переворачивается на другой бок и продолжает спать.
С улицы слышится голос хозяйки, что сдает тут всем комнаты. Она сидит на лавочке перед своим домом и покрикивает на всех. Она горластая, да, но голос ее звучит глухо, словно из-под маскарадной маски. Или у нее что-то лежит во рту, мешая потоку воздуха в гортани. Под скамейкой сидит ее пес Капитан и грызет свой хвост, потому что его донимают мухи – но больше всего они доставучи до его ушей. И тут вдруг я замечаю, что коробка пропала и через двор прочь от наших дверей спешит хозяйкин внук Ифеаний, уносит мою коробку.
– А ну отдай! – кричу я и пытаюсь догнать его. Ифеаний быстро подбегает к своей бабушке и присаживается рядом с ней на лавочку. Я запыхалась от бега, стою возле них и сама не понимаю, зачем мне эта коробка с неизвестным содержимым. Просто меня бесит сам Ифеаний – он вечно у всех все отнимает, а мы все тут должны заткнуться и терпеть его свинство.
Я здороваюсь с хозяйкой, но она даже не смотрит на меня, кричит что-то через весь двор своей невестке Омаличе, которую она терпеть не может, потому что та умеет делать деньги из воздуха, но не способна родить ребеночка Чаксу, единственному сыну хозяйки. Прямо на моих глазах внаглую Ифеаний открывает коробку, и чего там только нет! Ломоть хлеба с маслом, банка шоколадного порошка, печенье, сухое молоко и пачка сахара. А еще несколько манго – парочка из них уже совсем спелые.
Я всем сердцем хочу заполучить эту коробку.
Ифеаний берет сочное манго и надкусывает его, оставляя на нем следы свои грязных кривых зубов, покрытых белым налетом. Я морщусь от отвращения. И тут хозяйка поворачивается ко мне и спрашивает:
– Где мои деньги, Трежа? – В голосе ее звучит тихая угроза, которая не сулит ничего хорошего.
– Хозяюшка…
– Ну? Опять будешь рассказывать небылицы?
– Пожалуйста, прошу вас. В эту пятницу, нет, в следующую пятницу вернется тетушка и расплатится с вами.
– То эта пятница, то не эта. – Хозяйка отхаркивается и сплевывает на землю. Встрепенувшись, Капитан слизывает мокроту с земли. – А почему бы вам не переехать к тетушке? Ведь она родня тебе. Поезжайте к ней, я сдам комнату другим и не стану тратить на вас свое время без толку. Ты девочка крепкая, устроишься где-нибудь прислугой.
Я стою, уставившись в землю, и наблюдаю, как стайка муравьев заползает в трещину асфальта.
Я знаю, что хозяйка ни за что не выгонит нас. Она получит свои деньги, и кроме этого, ей интересна молва, что ходит о нашей семье. Ведь мы с мамой – родственники «того самого человека». По вечерам народ заходит в хозяйкину пивнушку, и она рассказывает им всякие небылицы. Все пьют пиво, едят и сплетничают о нас. Поэтому вечерами я предпочитаю сидеть дома. Однажды я вышла во двор, чтобы выбросить мусор, а когда шла обратно, все мужчины из пивнушки глазели на меня и переговаривались. А один спросил хозяйку, мол, почему она не торгует таким хорошим товаром? И указал на мою грудь. С тех пор я ложусь спать, оставив мусор внутри дома, и до самого утра возле наших дверей шуршат крысы.
Ифеаний жрет мое манго, он даже умудрился разгрызть косточку. В уголках его рта собрались сок и слюна.
А я возьми и скажи, что у него зубы как мотыга.
Хозяйка разглядывает содержимое коробки.
– Надо же, денег нет, говоришь, а ухажеры твоей мамочки такое ей приносят. Или это твои ухажеры? – Она окидывает меня взглядом, словно прицениваясь. – Ладно, иди. Считай, что коробка с едой теперь моя, как компенсация за долги. Времени тебе даю до понедельника, поняла? Иначе придется вам спать на автобусной остановке. И даже не спорь.
Когда хозяйка злится и хочет показать серьезность своих намерений, то переходит на игбо.
Ифеаний уже добела обсосал косточку манго. Облизав пальцы, он берет следующий плод и прокусывает оранжевую корочку до самой красновато-зеленой мякоти. Такой хруст стоит, словно он жрет грудинку. Сок стекает до самых его локтей. Хозяйка вытирает ему лицо и снова заправляет тряпку за пояс халата. Ифеаний мой ровесник, его мама, хозяйкина дочь, умерла, и старуха носится с ним как курица с яйцом.
Зной обостряет чувство голода. Наша речушка здорово обмелела, да у меня и сил нет идти до нее. Богачи, что живут вдоль больших трасс, бурят для себя скважины, и некоторые устанавливают за заборами колонки, чтобы люди победнее не мотались на реку. Но я боюсь туда идти. Уж лучше б дождь пошел – тогда я бы поставила ведро под крышей.
У меня не хватает смелости, чтобы отправиться на Эке Ока и купить что-то из еды. А вдруг я снова натолкнусь там на духа? Мне страшно увидеть его тонкое лицо – тонкое и плоское, как на детском рисунке. Как я вообще могла принять его за человека? Ведь каждый знает, что на рынке кроме людей полно всяких духов, ангелов и других существ. Определить духа не трудно. Они не любят, если ты смотришь на их ноги. Столько таких случаев было, когда взрослый или ребенок посмотрел на ноги духа и получал по голове, после чего умирал. Может, потому он и нашел мой дом, что я посмотрела на его ноги? Что ж, мне здорово повезло, что осталась живой, но лучше не рисковать и не ходить на рынок.
Я ложусь, чтобы немного поспать. Днем я замачиваю муку из гарри и бужу маму, ну сколько можно спать. Она съедает всего три ложки каши и снова засыпает, а я доедаю остатки. Муки осталось на дне мешка вперемешку с песком, и когда я жую, он хрустит у меня на зубах. Я так вспотела от жары, что все платье мокрое. Каменный пол дарит прохладу, но занавески плотно не закрываются: я отодвигаюсь в сторону, чтобы солнце не попадало на меня, и снова засыпаю.
Сны мне снятся такие яркие, хотя я понимаю, что сплю. Мне снится отец, будто он ждет меня возле ворот нашего старого дома. На нем рубашка с короткими рукавами и черные брюки со стрелочками, которые хрустят, если провести по ним пальцем. У меня красивый папа, на шее у него золотая цепь, что сверкает как киликили[40]. Я бегу к нему, и он подхватывает меня на руки и крутит, как маленькую. Когда папа опускает меня на землю, у меня аж щеки болят, так сильно я улыбаюсь. В глазах моих пляшет солнце, а от кружения кожа еще ощущает дуновение ветерка. Я крепко беру папу за левую руку, чувствуя прохладу его обручального кольца. Я даже помню его на вкус, потому что маленькой его всегда облизывала. Вкус обручального кольца – он соленый, металлический.
– Что-то ты припозднилась, – говорит папа, но вовсе не сердито. – Пойдем скорей, а то еда остынет.
Еда? Странно. В предыдущих снах мы просто сидели и разговаривали, никакой еды не было. При упоминании еды у меня аж слюнки текут. Папа смеется и поторапливает меня, чтобы мы поскорей зашли в дом.
Стол накрыт как положено по воскресеньям. Мама вытащила вазу фирмы Pyrex и уложила в нее фрукты и овощи. Я вижу распаренный белый рис в плошках, кроваво-красную кашу и куриные ножки. Все так заставлено едой, что не особо помахаешь ложкой.
– Это индейка, – говорит отец. – На Рождество мы всегда едим индейку, не забыла?
Я вроде молчу, но понимаю: точно, это не куриные ножки, а индейка. Горловина платья жесткая и натирает шею. Это такое розовое платье из шифона с серебристыми штучками, которые называются пайетками. Нижняя юбка из плотной сетчатой ткани, чтобы фалды платья красиво ниспадали от линии пояса, прямо как у королевы. И еще на мне белые гольфы с бантиками на боках, а в серединки бантиков вшиты перламутровые пуговички. Я начинаю кружиться, и мои белые туфли с пряжками весело скрипят, и папа хлопает в ладоши.
– Ах ты, моя маленькая Сакхара, – говорит он. – Моя прекрасная девочка.
Я сейчас похожа на Анну из фильма «Принц и я». Мы с папой вместе смотрели его, когда я была маленькая. Это мое любимое кино. Там у всех такие красивые платья, и они в них кружатся, кружатся…
– Нгва, садись уже, – говорит папа. Он начинает раскладывает еду по тарелкам. – Кушай, пока все горячее. – Он кладет мне на белую тарелку рис, два больших куска индейки, кашу, а потом тянется к огромному салатнику. Определенно, это рождественский салат. С зеленым и репчатым луком, помидорами, кукурузой, огурцами, с сардинами и печеными бобами. С сервировочной тарелки я беру пару ложек жареных бананов, а потом говорю:
– Погоди, а почему к нам не присоединилась мама? И где Мерси?
– У мамы разболелась голова, но она скоро подойдет. Хочешь курицу карри?
Вроде ее не было на столе, но как по мановению волшебной палочки появляется блюдо с курицей карри – такая желтая маслянистая вкуснятина с гарниром из картошки с овощами, все как готовит мама. И это единственное блюдо, которое именно так и готовит моя мама. В желудке урчит – мол, давай, корми меня скорей, но я не обращаю на него внимания.
– Ты не мой папа, – вдруг заявляю я.
– Да что ты такое говоришь, моя милая Сакхара? – Папа смотрит на меня, разговаривает со мной, но руки его вроде как двигаются сами по себе, словно он их не контролирует: одна рука держит тарелку, а другая накладывает в нее еду. – Ты, наверное, хочешь пить, давай я принесу тебе сок Tree Top. Ты сиди, сиди, а то Мерси рассердится, если ты ничего не поешь. – И тут появляется бутылка с концентрированным соком Tree Top, сама переливается в кувшин, потом в него сама добавляется вода, и получается осветленный апельсиновый сок.
– Хватит уже притворяться, – говорю я.
Отец смеется.
– Какая ж ты у меня упрямая, золотце мое. Я очень горжусь тобой. Кстати, ты не устала? Давай папочка поухаживает за тобой.
– Ты не мой папа! – Я даже не повышаю голоса, но вся комната сотрясается, словно и она, и мы вместе с нею находимся в картонной коробке, которую кто-то куда-то несет.
– Не надо кричать, солнышко, ведь у твоей мамы голова болит, хоть ее пожалей.
– Мой папа не скажет «у твоей мамы». Он просто называет ее «мамой», как и я.
Псевдопапа замирает на секунду, вдруг меняется в лице и берет стакан с налитым для меня соком.
– Ведь все это для тебя, а ты отказываешься. Неудивительно, что ты ходишь по рынку и попрошайничаешь, чтобы тебе дали хотя бы десять найр. – Он отпивает немного моего сока, и цвет у него стал какой-то странный – такой нормальные люди не пьют.
И тут я открываю рот и кричу. Платье само собой слетает с меня и рвется на куски. У стола, что ломился от множества блюд, подламываются ножки, и вся еда разлетается по комнате – жареные бананы, салат, минеральная вода, сок. Потолок весь забрызган кашей, словно кровью. Рис вываливается на пол, часть рисинок попадают мне на кожу, в волосы, и мне становится щекотно. Но это оказывается не рис, а личинки. Я опять кричу, пытаясь стряхнуть с себя эту гадость. Некоторые лопаются, измазав мои руки слизью. А псевдопапа все подбрасывает и подбрасывает рис в воздух, и этот рис расползается по комнате.
Я просыпаюсь, уткнувшись носом в бетонный пол. Слюна во рту липкая и тягучая, как суп из окры, который растягивали на много дней, несколько раз подогревая на огне. Я прислушиваюсь к звукам улицы. Из-под двери пробивается тусклая полоска света. Должно быть, сейчас вечер. И как я могла так долго проспать? В комнате жарко, тут надышали два человека – я и мама. Моя нижняя губа разбита. И я вся чувствую себя разбитой.
Глава 6
Озомена: день сегодняшнийНожницы царапают затылок, Озомена морщится, но сидит смирно. Она привыкла, что поход к парикмахеру – дело болезненное. Ведь твои волосы скручивают, заплетают в тугие косички, после чего на коже могут даже остаться болячки. Иные парикмахеры, не выпуская расчески из рук, могут даже стукнуть ребенка, чтобы он не ерзал, но ее бог миловал от такого. Некоторые родители даже подкупают своих чад сладким, только бы они пошли к парикмахеру, но Приска никогда не потакала дочерям.
И вот она смирно сидит на стуле, пока братец Али промокает порез на ее шее обрывком бумажного полотенца и бормочет:
– Прости, ох, прости, у тебя такая нежная кожа.
Ничего себе объяснение.
Приска видит через зеркало, как братец Али озабоченно хмурится, беспокоясь, что ему влетит от Приски. Озомене хочется сказать, что не стоит так волноваться, она его не выдаст.
Наконец падает последняя густая прядь, плечи и пол усеяны ее волосами. Озомена чувствует головой приятный холодок и радостно поеживается. Наконец-то она, ученица средней школы, избавилась от последнего пережитка детства. Ей ужасно хочется провести рукой по волосам, остриженным до длины в семь сантиметров.
– Ну что, тебе нравится, аби?[41] Сейчас я придам прическе стиль, выбрею тебе узор. – Парикмахер изображает в воздухе замысловатую вязь, стараясь загладить свою вину.
– Нет, моя мама будет против, я ведь пойду учиться в среднюю школу.
– В самом деле? И где же?
– Это школа-пансион в штате Имо.
– Неужто федеральное учреждение? Прекрасно, прекрасно, – говорит братец Али, размахивая ножницами, словно волшебной палочкой. Озомена решила не уточнять насчет школы. Умные мальчики и девочки обычно и попадают в государственные колледжи – пусть братец Али думает, что так оно и есть. Он делает еще несколько пассов ножницами, затем озадаченно смотрит на полученный результат. – Давай-ка немного выстригу тебе затылок.
– Хорошо, только не делайте из меня панка, – просит Озомена, от волнения совсем забыв, что для панковского стиля нужны более длинные волосы. Братец Али откидывает прядь волос с ее шеи и берется за дело, постоянно поворачивая ее голову то в одну, то в другую сторону. Его большой палец больно надавливает на мочку уха, словно он забыл, что имеет дело с живым человеком, а не тренировочной болванкой.
Заведение «Братец Али» расположено на главной улице города, рядом с крупным супермаркетом Jordinco. Конкуренты Али Thompson’s находятся буквально в нескольких метрах отсюда. Улица эта называется Ахалла Роуд: в одном ее конце – древний рынок Эке Ока, а в другом – современные банки, и все это взаимосвязано и поддерживает друг друга на плаву, когда займы и прибыль совершают свой магический круг. По тротуару плывут толпы пешеходов – через тусклое в пятнах зеркало Озомена видит движение на проезжей части: грузовики с апельсинами, пикапы, городские автобусы и желтые такси с полоской из черных шашечек от капота до багажника, что очень похоже на летящий пчелиный рой. Владельцы тачек мешают пешеходам, стараясь втиснуться хотя бы на край тротуара, под которым проходит водосток. В субботу санитарные службы отвалили несколько бордюрных камней в сторону, и под ними проглядывают сухие водоросли, покрытые коричневой коркой. В сезон дождей не дай бог наступить в такое место: именно сюда стекает вонючий и гнилой мусор, в котором происходит своя микроскопическая жизнь из бактерий, и на липкой поверхности всей этой гадостной жижи всплывают пузырьки. А во время наводнений любого неосторожного прохожего, решившего, что он идет по ровной твердой поверхности, может засосать с головой, а затем поток утянет его вместе с этой грязью на самое дно реки.
– Все, готово, – говорит наконец братец Али. Озомена поднимает голову и вдруг видит в зеркале подобие собственного отца. С довольной улыбкой братец Али подносит к затылку девочки ручное зеркало, демонстрируя результат сзади.
– Здорово же, правда?
Озомена издает булькающий звук, ей хочется разрыдаться. Братец Али сделал ей стрижку как у папы, это стиль ее папы.
– Я стала похожа на панка, – расстроенно говорит Озомена. Она крутит головой, стараясь разглядеть себя под всеми возможными углами. Стрижка вышла мальчишеской и совершенно не сочетается ни с лицом, ни с формой головы.
– Никакой ты не панк, – говорит братец Али и гладит девочку по голове. – Ты выглядишь как примерная ученица. – Он любовно поправляет отдельные прядки.
Губы у девочки горят от обиды, она вот-вот разревется. Озомена вскакивает со стула, пытаясь сорвать с себя накидку и полотенце.
– Эй, эй! – кричит братец Али. Он сердито хмурится, ноздри его толстого, как картошка, носа раздуваются. – Поосторожней с моим инвентарем.
Любовно и несколько подобострастно он снимает и накидку, и полотенце, потом обмахивает толстой кисточкой шею и одежду Озомены.
– Спасибо, – выдавливает из себя та, стараясь не смотреть на парикмахера. Разве можно благодарить человека за этот ужас? Было договорено, что Приска заедет за дочерью, но Озомена больше не может находиться в этом заведении, что сродни огороженному загону. Она ненавидит эти неудобные стулья с низкими спинками, этот обсыпанный волосами диванчик, плакаты с мужскими прическами афро от коротких до длинных со стилизованными бакенбардами и усами. Эта парикмахерская застряла в далеких восьмидесятых, да и сама Озомена, заполучив стрижку «а-ля папа», чувствует себя артефактом.
– Когда придет Нваный Дибиа, передайте ей, пожалуйста, что я отправилась домой пешком, – просит она, намеренно употребив мамино прозвище, по которому ее все знают в городе – «женщина-фармацевт». Братец Али молча кивает и, насвистывая какую-то песенку, начинает отряхивать стулья полотенцем, поднимая в воздух облако мелких волосков. Он только рад избавиться от Озомены – Приска заплатит ему за его вольное творчество, не имея перед глазами результата.
Озомена выходит на улицу: ее оголенную шею овевает легкий теплый ветерок, но она не может им насладиться. Ей кажется, будто все глядят на ее выпуклый лоб и толстые губы, которые эта прическа только подчеркнула. Будучи совсем ребенком, она даже гордилась темным пушком над верхней губой, потому что у ее папы были усы, а она хотела быть как он. А вот теперь…
Да, а что теперь?
Слезы и так подступают к горлу, а тут еще какая-то женщина заругалась, что нельзя так ходить – загребая пыль ногами. И комок в горле превратился в камень. Озомене хочется все делать назло, но ее ноги уже все покрылись пылью.
Добравшись до площади Огбугба Нква, девочка свернула в сторону квартала Амикво, и природное любопытство взяло верх над самоедством. Квартал этот – место сосредоточенного проживания северян, народностей хауса[42] и фулани[43]. Тут был совершенно другой мир. Из радиоприемников гремит индусская музыка, прерываемая новостями на языке хауса. Малламы (северяне) сидят перед своими домами и магазинчиками (иногда одно совмещено с другим) и громко беседуют, смеются, жестикулируют, попивают фура да ноно[44] и едят орехи кола. По левую сторону от Озомены – здание медресе, откуда слышатся распевные гимны. Вокруг этого здания царит тенистая прохлада, но некоторые ученики, наоборот, выдвинули свои коврики на солнышко: они сидят на траве и пишут что-то на своих дощечках. И уже в который раз Озомена жалеет, что не знает языка хауса и не может пообщаться с этими людьми. Единственное влияние северян на их семью состояло в поедании по субботам бобового пирога акара и каши из кукурузы акаму. Все вместе это и было их маленькой дава, данью исламу[45].
Мимо проходит стайка девушек фулани. Глаза их подведены отангеле[46], волосы, шея, запястья, талия и предплечья обвиты украшениями из разноцветных бусин. Они словно сошли с киноафиш, что развешены по всему кварталу Амикво. О, эти волоокие красавицы – как пленяет взмах их ресниц из-под порхающих платков, эти красные точки на лбу и многочисленные браслеты на обеих руках. Озомена не может оторвать глаз от девушек, завороженная их раскованной грацией и жизнелюбием. Вот они идут, хихикают над чем-то, неся на головах корзины и подносы с фруктами, даже не придерживая их руками. Озомена уже жалеет, что ее так обкорнали, а ведь она так мечтала о короткой стрижке. Опустив голову, она убыстряет шаг, шлепки стучат по пяткам. Этим маршрутом Озомена частенько возвращалась домой, учась в начальной школе, поэтому сейчас легко ориентируется в извивах дороги. Вот магазинчик, где она покупала сладости, тратя выданные родителями деньги на такси, чтобы добраться домой после дополнительных занятий. Напротив – ателье: ученики и ученицы тренируются на мешковине, и только после обретения достаточных навыков их допускают до пошива настоящей одежды. Озомена проходит мимо сарайчика, в котором мама одной из ее учительниц может быстро перемолоть вам бобы и кассаву для поджарки. Девочка кидает осторожный взгляд на двухэтажный домик рядом: здесь на балконе частенько сидит мадам Озиома – отдыхает или проверяет домашку по математике. Озомене нравится эта учительница, ее все любят, но сейчас ей не хочется попасться ей на глаза и отвечать на вопросы, в какую именно школу она «перешла», к тому же ей все еще стыдно за неподобающее поведение на экзамене в «Новусе».
Перед перекрестком девочка смотрит по сторонам и быстро перебегает дорогу. Дальше начинается грязная тропинка, которая ведет к ее дому. Здесь уже нет красивых киноафиш: стены домов испачканы клеем – это все, что осталось от предвыборных постеров. Почти над землей стена вся измазана чем-то коричневым – это дети так вытирают свои грязные попы. Озомена торопится поскорее пройти это место.
У дороги на пенечке сидит старая монашка, грустно обмахивая себя ладошкой.
– Здравствуйте, – говорит Озомена. Затуманенный взгляд старушки проясняется, глазки остро впиваются в девочку. Монашка приподнимается и обнюхивает воздух костистым носом. Озомена ускоряет шаг, не понимая, чем она могла обидеть эту женщину.
– Эй, девочка, – зовет монашка. Она говорит на корявом игбо, неправильно ставя ударения. Голос ее звучит трескуче.
– Что вам, сестра? – спрашивает Озомена, мысленно гадая, уж не мамина ли это знакомая. Довольно странно видеть одинокую монашку здесь возле дороги, под палящим солнцем. Обычно сестры разъезжают группками в машинах с кондиционерами. А у этой – обветренное, как у рабочего, лицо с огрубевшей кожей в струпьях и вмятинами, как у старой картофелины.
Монашка подходит поближе. Ее сине-зеленые (точь-в-точь как на картинках про море), глубоко посаженные глаза буквально пожирают девочку взглядом.
– Я вижу тебя, – говорит она голосом блаженной. Монашка вытягивает руку, словно благословляя, и Озомена протягивает ей свою. И тут монашка вцепляется в ее запястье, притянув девочку ближе, и дыхание ее пахнет лесом.
– Мне нужно добраться до дома, – говорит монашка. – Покажи мне дорогу.
Боль бежит вверх, как от удара по локтю. Становится холодно. Холодная волна накатывает на девочку, и это всего от одного прикосновения. Вот так и вода в ведре, если капнуть в нее каплю чернил, все равно поменяет свой цвет. Монашка трясет девочку с такой силой, что у той стучат зубы, и при этом она совершенно не в состоянии пошевелиться.
– Говори же! – требует монашка. – Ты же видишь меня. Я знаю, что ты одна из них.
Монашка еще крепче сжимает руку Озомены, да так, что хрустят все косточки, и девочка чувствует ужасную слабость и тошноту. Она пытается вырваться, отчего кожа на руке скручивается как выжатое полотенце.
– Не вздумай сопротивляться, – говорит старуха деревянным голосом. – Я устала и хочу домой.
«У нее на лбу красная точка», – думает Озомена. Как странно видеть монашку с бинди[47]. А потом она вдруг понимает, что это не красная точка, а рваная кровавая дыра.
Озомена пытается лягнуть старуху, но ее нога запутывается в складках длинного монашеского одеяния. Девочка подпрыгивает, чтобы ударить эту странную женщину с яростным взглядом и неестественно коричневым лицом. Инстинктивно Озомена целится прямо в красную дыру. Монашка отшатывается, отпускает руку Озомены, и та разворачивается и бежит прочь. Будучи девочкой далеко не худенькой, она даже не ожидала от себя такой прыти.
– Стой! – кричит вдогонку старуха. – Подожди, девочка! Покажи мне дорогу домой, отведи меня домой!
Только один раз Озомена позволила себе оглянуться. Старуха стояла, вытянув вперед руки, даже не думая устраивать погоню.
Озомена прибегает домой еле живая, пот течет с нее ручьями. Она поднимается на крыльцо, буквально повисая на металлических поручнях. На запястье, что пыталась выкрутить ей монашка, остались припухлости, которые быстро превращаются в лопающиеся пузыри, и больно так, словно рану посыпали перцем. На пороге ее встречает Приска, она очень сердита.
– Я, кажется, просила тебя обождать меня в парикмахерской. Нынче опасно ходить одной…
Приска осекается, увидев горячечный взгляд дочери – уж не началась ли у нее лихорадка?
– За мной гнались! – выпаливает Озомена, с трудом переводя дыхание. Увидев сердитое лицо матери, она умолкает. Нет, она не станет рассказывать, что у дороги сидел то ли мертвец, то ли дух и он пытался схватить ее. На самом деле это обычная история, когда к кому-то приходит дух или пытается поймать тебя – эти случаи передаются из уст в уста, но Приска считает все россказнями. Поэтому Озомена просто говорит, что за ней гналась бешеная собака, а потом она свалилась в кусты.

