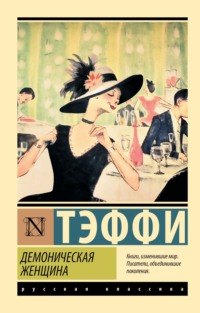
Демоническая женщина
Вошла кухарка, встала у дверей.
– Это что? А? Это крутое яйцо? А?
– Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось… Я ведь тоже не Свят Дух!..
– Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего… Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!
– Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность…
– Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было…
– А где подарки?
– Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь…
– Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!
– Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..
– Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.
– Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!
– А, так вот же вам!
Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.
– Пойду, отдам прислуге подарки, – сказала Хохлова и встала из-за стола.
Муж остался один и долго молча жевал.
– Ну что, рады небось? – спросил он, когда жена вернулась.
– Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили… Глаша говорит, что фрейлейн плачет.
– Чего она?
– Браслетка не нравится. Не к лицу.
– Вот дура!
– Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!
– Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?
– Ничего. Это девчонки крокет ломают.
– Эдакие дряни! Вот я им ужо!!
Нянькина сказка про кобылью голову
– Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? – спросила я у своей соседки по five o’clok’y.
– Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы… Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка… Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avez, ils ont»… или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.
– Все это вздор! – перебила ее хозяйка дома. – Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, – это развитие в детях фантазии.
– Однако? – удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь сострить.
– Finissez! Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька – вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.
– Pardon! – вставила моя соседка. – Вы что-то сказали о поэтах… Я не совсем поняла.
– Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин: «Голубка дряхлая моя… голубка дряхлая моя… сокровища мои на дне твоем таятся…»
– Pardon, – вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, – это, как будто, к чернильнице…
– Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», – ведь всему этому научила его нянька!
– Неужели и «Евгений Онегин»? – усомнилась моя соседка.
– Удивительно! – мечтательно сказал хозяин дома, – такая дивная музыка… И все это нянька!
– Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.
– Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! – заметила моя соседка. – Я знала одного дантиста… Так он ужасно много о себе воображал… То есть я не то хотела сказать…
Она слегка покраснела и замолчала.
– А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!
– Говорят, есть такие флюиды… – вставил хозяин, сделав умное лицо.
– Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я – мать.
Мы не спорили, и она продолжала:
– Прихожу я раз в детскую, вижу – Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, – господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!» – выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.
В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.
– А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре… в жанре… как его? Их еще два брата…
– Карл и Франц Мор, – подсказал молодой человек.
– Да, – согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: – Ах нет, на «Д»…
– Решке, что ли? – помог муж.
– Finissez! В жанре… в жанре Маковского.
– Так вот – картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C’est poétique. Так что же, – пойдемте?
Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.
В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:
– «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.
Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.
Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.
– Здравствуй, – говорит, – папаша!
Испугался мужик, однако делать нечего.
– Какой, – говорит, – я тебе, кобылья голова, папаша!
– А такой, что веди меня к себе в избу жить.
Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.
Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.
Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:
– Папаша, а папаша, я жениться хочу!
Испугался мужик, однако делать нечего.
– На ком же ты, – спрашивает, – кобылья голова, жениться хочешь?
– А так что, – говорит, – иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.
Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.
А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.
И живет она богато-богатеюще.
Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и манчестером отделано.
А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.
А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.
Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.
Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.
Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганный, и палаты каменны, и пирога кромку.
Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»
– C’est fantastique! – хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.
– Тсс! Revenons в гостиную!
Страшный гость
Американский рождественский рассказВ Рождественский сочельник, когда все театры закрыты и люди предаются мирным семейным забавам, холостякам деваться некуда.
Поэтому в клубе стали собираться рано, и к 12-ти часам игра была в полном разгаре.
Молодой инженер Джон Уильстер, проиграв изрядную сумму, отошел от стола, чтобы отдохнуть и перебить несчастную полосу.
Наблюдая за играющими, он заметил элегантного молодого человека, высокого, с острым крючковатым носом и быстрыми движениями, которого он раньше не встречал здесь.
Молодой человек не играл, а только вертелся у стола, толкая всех локтями и вызывающе смеясь над каждым, кому не везло.
– Что это за неприятный субъект? – спросил Уильстер у своего соседа.
– Не знаю. Очевидно, гость, так как он не играет.
А незнакомец в это время хлопал по плечу мистера Вильямса, старейшего и почтеннейшего члена клуба, и кричал:
– Не везет старикашке! Поделом. Нельзя играть, как сапожник.
Мистер Вильямс покраснел и сказал сухо:
– Я попросил бы вас не быть таким фамильярным со мной, милостивый государь!
– Каково! – захохотал незнакомец. – Он же еще и недоволен мною!
Вильямс пожал плечами и отошел от нахала.
– Кто это? – спросил он у дежурного старшины.
– Право, не знаю, какой-то мистер Блэк.
– А кто же его рекомендовал?
– Кто-то из членов. Сейчас отыщу его карточку. – Старшина выдвинул ящик стола и достал визитную карточку.
– Мистер Джонс. Он впущен по рекомендации Джонса.
– Джонса? Бедный Джонс – ведь он вчера скончался.
– Да, я знаю, – ответил старшина и, подумав, прибавил: – Но ведь рекомендацию он мог выдать дня за два до смерти. Тут число не проставлено.
– Надеюсь, что не после смерти, – проворчал Вильямс и снова подошел к столу.
Незнакомец продолжал приставать и раздражать всех.
– Вы мне наступили на ногу! – вскрикнул один из игроков.
– Не беда! – дерзко ответил незнакомец и остановился в вызывающей позе, точно ожидал и желал ссоры.
Но поглощенный картами игрок не обратил внимания на его реплику, и незнакомец отвернулся с явной досадой.
– Кто это такой? – спросил у Вильямса инженер Уильстер.
– А кто его знает! Пришел сюда по загробной рекомендации от одного покойника и чудит.
– От покойника? – удивился инженер. – А как же его фамилия?
– Блэк.
– Блэк? Блэк – значит черный… Кто он такой?
– Должно быть, дьявол, – невозмутимо ответил Вильямс.
Уильстер усмехнулся, но ему почему-то стала неприятна шутка Вильямса.
– Что за вздор! Почему он рекомендован покойником?.. – Он подошел к незнакомцу и с любопытством стал приглядываться к нему.
Тот, действительно, был похож на черта, каким принято его изображать. Остроглазый, носатый и даже слегка прихрамывал, точно обул башмак не на ноги, а на копытца и не мог свободно ходить.
Лоб у него был узкий, высокий, с зализами, и прямой пробор раздвигал жесткие волосы, которые торчали под висками двумя черными рожками.
Странное жуткое чувство охватило молодого инженера.
«Может быть, я сплю, – подумал он. – А если сплю, тем веселее, потому что тогда этот господин самый настоящий черт».
В это время кто-то из игроков крикнул незнакомцу:
– Пожалуйста, не трогайте мои карты!
На что незнакомец ответил с мальчишеской заносчивостью:
– Хочу – и трогаю!
Потом посмотрел внимательно на того, с кем говорил, и вдруг переменил тон:
– Впрочем, извиняюсь. С вами мне делать нечего, вы слишком и худощавый, и слабосильный. Я извиняюсь.
Он отошел от стола, и все удивленно расступились перед ним.
К Уильстеру подошел один из членов клуба, молодой поэт. Лицо его было бледно, и он растерянно улыбался.
– Кто этот господин, вы не знаете? – спросил он Уильстера. – Правда, что его рекомендовал кто-то в загробном письме? Я ничего не понимаю.
– Я сам ничего не понимаю, – признался Уильстер.
– Зачем же систематически вызывает всех на ссору с ним? Может быть, это какой-нибудь известный бретер и ищет дуэли?
– В таком случае отчего же он извинился сейчас перед Тернером?
– Ничего не понимаю. Или я сплю, или я поверил в черта.
Он криво усмехнулся и отошел.
– Он тоже думает, что он спит! – пробормотал Уильстер. – Нет, это я сплю. Иначе я сошел с ума и галлюцинирую.
Он сжал себе виски руками и вдруг смело подошел прямо к незнакомцу.
– Итак, черный господин, – сказал он, – вы явились сюда ровно в полночь, не правда ли? И предъявили визитную карточку покойника, и у вас рога на голове и копыта в сапогах, и вы пришли, чтобы выбрать жертву и погубить ее. Не правда ли, господин Блэк?
Незнакомец пристально взглянул Уильстеру прямо в лицо своими острыми глазами, потом оглядел всю его фигуру и вдруг сказал:
– Мне ваша физиономия не нравится! – Это уж был не сон.
Уильстер вспыхнул.
– Вы мне за это ответите, милостивый государь. Вот моя визитная карточка.
Но незнакомец не принял карточки Уильстера.
– Я не буду драться с вами, мальчишка, – презрительно ответил он. – Вы трус! Вы никогда не посмеете даже дать мне пощечину! Ваша рука слишком слаба для удара.
Это было что-то неслыханное.
Ему, Уильстеру, знаменитому боксеру, говорят, что его рука слишком слаба. Или все это действительно снится ему.
Он поднял глаза.
Незнакомец стоял, повернувшись к нему почти в профиль, и ждал.
Уильстер вскрикнул и ударил со всей силы по обернутой к нему щеке дьявола.
Тот ахнул и упал.
– Доктора! – закричал он. – Скорее доктора! – И засунул палец себе в рот.
Сидевший среди играющих доктор кинулся к нему. Незнакомец медленно поднялся и, обращаясь к доктору, сказал:
– Освидетельствуйте меня скорее и констатируйте факт: два зуба выбиты – вот здесь и здесь, а два, находящиеся между ними, остались целы и даже не шатаются. Можете убедиться. Это происходит оттого, – торжественно продолжал он, – что выбитые зубы были вставлены обыкновенным способом, а оставшиеся – по новому способу дантиста Янча, живущего в Лег-Стрите, дом № 130 Б, принимает ежевечерне от часу до пяти, два доллара за визит!
Он вскочил и, медленно отступая к дверям, стал разбрасывать веером визитные карточки.
– Дантист Янч, Лег-Стрит, 130 Б! – повторял он. – Подробный адрес на этой карточке. Доктор Янч! Лег-Стрит!
Лицо его преобразилось. Он имел спокойный и довольный вид человека, хорошо обделавшего выгодное дельце.
– Дантист Янч, – донеслось уже из-за двери, – Лег-Стрит.
Игроки молча смотрели друг на друга.
Карьера Сципиона Африканского
Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул.
А между тем рецензия о спектакле была необходима.
Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. Больного вторые сутки не было дома.
Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы.
– Я напишу о спектакле, – сказал печальный и тихий голос.
Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру, с уныло-вопросительными бровями.
– Вы взяли билет?
– Нет. У меня нет билета. Но я напишу о спектакле.
– Да как же вы пойдете в театр без билета?
– Я в театр не пойду, – все так же печально отвечал хроникер, – но я напишу о спектакле.
Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.
Через час рецензия была готова:
«Александрийский театр поставил неудачную новинку “Горе от ума”, написанную неким господином Грибоедовым. (Зачем брать псевдонимом такое известное имя?) Sic!..»
– А ведь он ядовито пишет, – сказал редактор и продолжал чтение:
«Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде “О, закрой свои бледные ноги”, как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли (Sic! Sic!)».
«А ведь и правда, – подумал редактор. – Очень не мешает актеру знать потверже свою роль. Какое меткое перо!»
«Из исполнителей отметим г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на своих местах.
Автора вызывали после третьего действия. Sic! Sic! Transit!
Сципион Африканский»– Это что же? – удивился редактор на подпись.
– Мой псевдоним, – скромно опустил глаза печальный хроникер.
– У вас бойкое перо, – сказал редактор и задумался.
* * *Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы.
«Пять лет каторжных работ! Лишение всех прав! Высылка на родину! Штраф по усмотрению! Конфискация! Запрещение розничной продажи! Крепость!»
Слова эти гулко вылетали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию.
Недописанные статьи летели в корзину, дописанные сжигались дрожащими руками.
Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал:
– У вас нет материала, так я вам приведу жирафов.
– Что? – даже побледнел редактор.
– Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей.
Недоумевающий редактор согласился. На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу четырех жирафов, которых и приведут из Африки прямо в Петербург сухим путем. Где нельзя – там вплавь.
Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали, и Сципион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко и в конце концов так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали: Сципион согласился на третейский суд.
А жирафы между тем шли да шли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдыхавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из Ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по поводу того, что в Калькутте леса растут в кадках, но редакция казнила его своим молчанием.
Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона.
– Довольно жирафов, – сказал он. – Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны.
– Господи! Куда же я теперь с ними денусь? – затосковал Сципион с таким видом, точно у него осталось на руках пятеро детей, мал мала меньше.
Но редактор был неумолим.
– Пусть сдохнут, – сказал он. – Мне какое дело.
И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло.
* * *Журналистов не пустили в Думу, и газета, в которой работал Сципион, осталась без «кулуаров».
Настроение было унылое.
Сципион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия, и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их.
А кулуары все-таки были нужны.
– Сципион Африканский, – взмолился редактор. – Может быть, вы как-нибудь сможете…
– Ну, разумеется, могу. Что кулуары – волк, что ли? Очень могу.
На следующий же день появились в газете «кулуары».
«Прекрасная зала екатерининских времен, где некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей.
Вот идет П. Н. Милюков.
– Здравствуйте, Павел Николаевич! – говорит ему молодой, симпатичный кадет.
– Здравствуйте! Здравствуйте! – приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает его правую руку своей правой рукой.
А вот и Ф. И. Родичев. Его высокая фигура видна еще издали. Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова:
– Так вы еще не завтракали?..
– Нет, Федор Измаилович, еще не успел.
Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу.
– Ну что, вы все еще против погромов?
– Безусловно, против, – отвечает, улыбаясь, группа и проходит дальше.
Ожидается бурное заседание, и Маклаков (Василий Алексеевич), видный брюнет, потирает руки.
После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии с.-д.
Вот раздалась звонкая польская речь, это беседуют между собой два представителя польской группы.
В глубине залы, у колонн, стоит Гучков.
– Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами?
Гучков улыбается и делает неопределенный жест.
У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе.
В буфете, у стойки, закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит к крайним правым.
«Нонича, теперича, тае-тае», – говорят мужички в кулуарах.
* * *– «Последний Луч» меня переманивает, то есть «кулуары», – с безысходной грустью заявил Сципион.
Редактор вздохнул, оторвал четвертушку бумаги и молча написал:
«В контору.
Выдать Сципиону Африканскому (Савелию Апельсину) авансом четыреста (400) рублей, с погашением 30 %».
Вздохнул еще раз и протянул бумажку Сципиону.
Изящная светопись
Кто хочет быть глубоко, безысходно несчастным?
Кто хочет дойти до отчаяния самого мрачного, самого черного, с зелеными жилками (гладкие цвета теперь не в моде)?
Желающих, знаю, найдется немало, но никто не знает, как этого достигнуть. А между тем дело такое простое…
Нужно только пойти и сняться в одной фотографии. Конечно, я не так глупа, чтобы сейчас же выкладывать ее имя и адрес. Я сама узнала их путем тяжелого испытания, пусть теперь попадутся другие; может быть, это даст мне некоторое удовлетворение… Ах! Ничто нас так не утешает в несчастье, как вид страдания другого, – так сказал один из заратустрвующих.
К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько, даже, может быть, много. Так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. (Впрочем, нападет-то она сама на вас!..)
Узнала я обо всем не особенно давно.
И так это все вышло странно… Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно. Зажгли фонари. На небе тоже стемнело, и зажгли звезды.
Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медведицу, дважды назвал ее «Прекрасной Кассиопеей».
Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху, над крышами, что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой, немного подальше. Затем третий.
«Кто это там перемигивается ночью, под черным небом? – подумала я. – Дело, как будто, не совсем чисто».
Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния.
Ну, что ж, – магний так магний.
Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога.
И недаром.
* * *От моей подруги отказался жених. Отказался от доброй, красивой (да – красивой; продолжаю на этом настаивать!) и умной барышни, которую он страстно любил, которой еще месяц тому назад писал – я сама видела – писал: «Единственная! Целую твои мелкие калоши!»
Отказался! Положим, он прибавил, что, может быть, скоро застрелится, но ей от этого какой профит?
Несчастье произошло оттого, что она подарила ему медальон со своим портретом.

