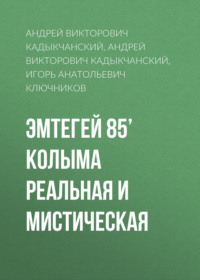
Эмтегей 85’ Колыма реальная и мистическая
– Чё ты заладил? Какой «красный пулемётчик»?
– Да вот, Андрюх, Урюк-то не едет всё и не едет… Может, его того… Красный пулемётчик на перевале подстрелил?
– Дурак, что ли? Красный пулемётчик по дороге на Хандыгу, а Урюк в Кадыкчане сейчас, это ж в другую сторону.
– Ну, я так… Вспомнилась что-то детская песенка да привязалась.
– Про что это вы тут речи ведёте? – поинтересовался бригадир.
– Это, Толь, старая история. Про Ласточкино гнездо. Не слыхал, что ли?
– Нет. А какое отношение к нашей машине может иметь Ласточкино гнездо?
– Ну ты чё! Не крымское Ласточкино гнездо, а наше, то, что в Якутии, на Колымской трассе.
– И такое есть здесь? Нет. Не слышал. А что за место, Серёг?
– Это далеко отсюда, по трассе. Где-то между Оймяконом и Хандыгой есть перевал, который называется Сетте-Дабан, что в переводе с якутского означает «Семь ступеней». Так вот, эти Семь ступеней водители называют не иначе, как Семь ступеней в рай или Лестница в небо. Правда, есть и другое мнение, что это семь кругов ада. Там есть семь прижимов, каждый из которых – отдельное испытание шофёрского счастья или судьбы. Каждый прижим имеет своё название: Чёрный прижим, Жёлтый, Заячья петля, Чёртовы ворота, Развилка, Тёщин язык и Ласточкино гнездо.
Каждое из этих мест имеет славу гиблого. Там без причины машины срываются в пропасть. То камнепад, то сель, то лавина… В общем, там постоянно что-то происходит, и гибнет огромное количество людей. Больше всего обелисков – на обочинах у Чёртовых ворот, но самое жуткое место – это Ласточкино гнездо.
Там высота – больше двух тысяч метров. В июле иной раз снегопадами накрывает, но главное – это призрак… Там, Володь, когда Колымскую трассу строили, лагерь был. И над самой зоной, на вершине острой сопки, оборудовали пулемётное гнездо. А когда кто-то из зеков пытался бежать, пулемётчик косил оттуда на раз-два. Особо отличился один ретивый вертухай, узбек по национальности, пулемётчик-снайпер, ефрейтор Тагиров.
Он больше всех зеков замочил из «Дегтярёва». Медаль получил, в отпуск ездил. Ох, и люто его все зеки ненавидели. Однажды поймали его где-то, затащили в барак и начали на нём кожу на ремни резать. А тот всё скалился, пуская изо рта кровавую пену, и всё шипел по-змеиному. Перед тем, как умереть, прошептал, что он с того света их всех достанет и по одному перебьёт.
Тело Тагирова выбросили на помойку позади кухонного барака, и был он от пояса до головы весь в лоскуты порезан зековскими заточками, словно на нём красный бушлат надет был. А наутро трупака на месте не оказалось, только следы кровавые цепочкой вели на вершину сопки, где пулемётное гнездо было устроено. В общем, так и сгинул Тагиров. Решили все, что он живой оказался и погнал… Ну, в смысле, мозги набекрень съехали. Ушёл в сопки, там замёрз, а останки его росомахи сожрали.
Так бы и забыли о нём, да однажды прибежал часовой из Ласточкиного гнезда. Перепуган так, что пулемёт на посту оставил. Говорит, Тагиров к нему пришёл в красном бушлате и сказал, мол, Федя, или Вася, как там звали того часового, ты подремли себе в уголочке, а я за тебя покараулю.
Ну, это… Проверили того Федю или Васю – вроде трезвый, а такую чушь несёт. Отправились на пост, а сверху – очередь… Ррраз – а на плацу зек лежит. Оказалось потом, что это один из тех, кто мучил Тагирова. И с тех пор иногда он приходит, чтоб пострелять. Зоны давно уж не осталось. Даже напоминаний о том, что на той сопке было что-то. Но время от времени кто-нибудь из шоферов видит солдата в красном бушлате, который карабкается по камням к Ласточкину гнезду, а на плече у него – ручной пулемёт с большим диском сверху. Если видели Красного пулемётчика на перевале, то ни один водитель не едет. Все стоят и ждут, пока лавина не сойдёт или оползень.
– Серёг, но это ж пионерские байки всё… Неужели вы верите во всякую ерунду? В Деда Мороза тоже до сих пор верите? Взрослые мужики же уже.
– Я не знаю, Володь. Иногда не верю, иногда верю. Многие шофера своими глазами видели Красного пулемётчика.
– Хоть одного такого шофёра знаешь, кто сам, своими глазами видел?
– Вон, у васиного брата одноклассник шоферит на «Урале». Он видел.
– А… Значит, знакомый одного знакомого… Всё ясно, Серёг.
– Ну, я же не утверждаю сам, а дыма без огня не бывает.
Продолжаем игру молча. Чудесная погода, настроение ленивое, поэтому игра в карты быстро надоедает. Хочется заняться чем-то более активным. И тут слышатся шаги по деревянному мосту. Узнаю своего знакомого, с которым впервые встретился ровно год назад, выше по течению Аян-Юряха, километрах в пяти от стойбища. На гидрометеостанции, рядом с которой был «колымский «Артек», пионерлагерь «Уголёк».
Чингачгуки
Это Эдик Лаптев, парнишка лет тринадцати. Он из семьи эвенов, оленеводов, которые и слышать ничего не хотели про колхозы, жизнь в благоустроенном доме, даже про советскую власть. Они, как и поколения их предков, продолжают кочевую жизнь, минимально соприкасаясь с цивилизованным миром. У них свой мир, в котором нет места радиоприёмникам и унитазам, зато магия и ду́хи для них – такая же реальность, как для нас электричество и сантехник из ЖЭКа.
Обычно эвены отправляют детей в интернаты только на время учёбы, с октября или ноября до апреля. Эдик же один месяц в году обязательно проводил в пионерском лагере. Наверное, родители считали, что это ему пойдёт на пользу, но они вряд ли догадывались, что в лагерь Эдик приходил только ночевать. Всё остальное время он проводил в привычной ему тайге.
Послышался шум осыпающегося грунта у самого моста, и тут же на тропинке, ведущей к завалу плавника, где Дед ловил хариусов, возникла крепкая фигура Эдика в синем школьном костюме с погончиками и нагрудными карманами. На ногах, как и у большинства советских мальчишек – брезентовые кеды на красной резиновой подошве. В руках – оструганная палка с обрывком лески.
– Дяденьки, это чьё?
– Ничьё! – хором гаркнули мы, с удивлением переглянувшись друг с другом: никто из нас эту удочку в глаза не видел. Но Эдик, видимо, нашёл её, продираясь через кусты, когда шёл от моста к поляне напрямик.
– Можно порыбачить?
– Бери, конечно, только рыба не клюёт уже несколько дней.
– Я попробую, – Эдик деловито отвернул лацкан куртки-пиджака и извлёк оттуда одну из нескольких приколотых «мушек». Ловко привязал на конец лески и отправился к яме под мост.
Мне становится интересно, и я следую за ним. Смотрю, как Эдик забрался на завал, опустил мушку на воду и, слегка подёргивая концом удочки, имитирует агонию упавшего на воду насекомого. Глаза у парнишки такие узкие, что кажется, будто они у него крепко зажмурены. Непонятно, как он вообще может что-то видеть вокруг. Вдруг с громким плеском огромная пасть заглатывает приманку, и Эдик спокойно выводит к берегу здоровенного чёрного хариуса! У меня аж челюсть отвисла от удивления! Везёт же дуракам и пьяницам, думаю.
Эдик, улыбаясь во весь рот, стал похож на мультяшный подсолнечник. Прямо озарился весь, засветился. Никогда не мог понять, почему азиатов называют «жёлтыми». Узбек, которого называли Урюком, смуглый, но совсем не жёлтый. А вот эвены все белокожие, как снежная королева. Какой же он жёлтый?
Достаю из ножен на ремне нож, срезаю ветку тальника с отростком, отрезаю отросток сантиметров на 10 выше от его соединения с основной ветвью, и получается кукан. Хариус отправляется на него, повиснув на отростке, нанизанный через жабры в рот изнури. Но чудо! Не успеваю я его нанизать, как Эдик вытаскивает второго хариуса, ещё крупнее! Затем – третьего, четвёртого, и так за двадцать минут он у меня на глазах наловил пару килограмм рыбы!
– Дядя Андрей! А папироска есть?
– Эдик, ты с ума сошёл? У тебя грудь вон какая впалая. Будешь курить, не вырастешь!
– Тогда не буду больше ловить. Мне же не нужна рыба.
– Что ж ты с пойманной будешь делать?
– Парочку съем, остальное вам отдам.
– Чувак, да ты голодный, поди! Пошли к нам, покушаешь, чаю попьёшь.
Аппетит у Эдика на зависть. Сначала прикончил огромный кусок вчерашнего налима в фольге, потом ещё три жареных хариуса, а потом целую пачку печенья, кусков десять сахара и две кружки крепкого чая. Пытались парня разговорить, но он от природы немногословен. И при этом очень доброжелательный, душевный пацан. Впрочем, «пацан» – это не про него. Он в свои юные годы и рассуждает, и ведёт себя, как взрослый мужик.
Дед в это время вернулся с берега и закаркал, усаживаясь за столом, швырнув в сердцах удочку:
– Ничего не понимаю! Как вы столько рыбы наловили? Мёртвая яма, не берёт ни на одну мушку! Зелёную цеплял, красную, потом золотую, нет рыбы вообще.
– Иваныч, это мы с тобой тут туристы приблудившиеся, а для него, – киваю на солнцеподобного, с зажатой в зубах папироской, – тайга – дом родной. Рыбу он в любой луже поймает, а зверя и птицу на голых камнях добудет, не напрягаясь. Ему пропитание в тайге добыть проще, чем тебе холодильник открыть. Вот послушай, чего расскажу про эвенов.
Есть у меня сосед по подъезду сверху, Саня Горяинов. Они с корефаном в прошлом году поехали на Томтор (озеро в Якутии) на рыбалку на «Иже» с коляской, а вернулись без мотоцикла, зато с «Винчестером». Спрашиваю, откуда такое чудо, мол, раньше такие только в фильмах про индейцев видел. А тот и рассказывает:
«Наловили рыбы, сидим у костра, закусываем, вдруг копыта цокают. Подъезжает абориген верхом на лошади, а за спиной «Винчестер» болтается. Мы с дружком так и опупели. А тот спешился, лошадь навязал, ружбайку в чехол у седла сунул и к нам ковыляет. «Здрасьте!» – говорит. Садится на корточки, молча ухи себе в миску начерпал, и хлебает. Это у них меж собой так принято. Всё, что на столе есть, – всё общее, и разрешения взять еду у них не принято спрашивать. Вещь никакую ни за что не возьмёт, если чужое, а еда у них собственности не имеет – вся общая.
Потом помидорку взял. Изнутри мякоть выгрыз, а шкурку в костёр выбросил.
– Чего ты кожу не ешь? Там все витамины.
– Нет. Нам этого незя. Не полозено нам.
– А-а-а… Ну раз «не полозено»… Слушай, брат, а чё за ружжо у тебя такое диковинное.
– Да… Старое совсем рузьё. Есё отец мои с ним охотилась, а отцу от дедов досталось.
– Можно глянуть?
– Смотри, чево там. Зарязено!
Беру ружбайку, обалдел! Затвор-скоба, колодка латунная. Деревянные детали очень плохи. Видно, что ружью лет сто уже. Смотрю, буквы хорошо читаются: «Model 1895. Winchester», а пониже, мелкими буквами, нечитаемое что-то. Коротенькое ружьишко, лёгкое, прикладистое – ну такая лялечка! Спрашиваю: «Как ствол посмотреть?» Ну, этот «Чингачгук» разряжает магазин, и как-то вся винтовка вдруг от пары движений рассыпалась на несколько частей. Суёт мне отделённый ствол в руки: «На, смотри». Гляжу на свет, а там… Ети его мать! Не канал, а «лунная поверхность»: нарезы ещё видны, но, по всем параметрам, стрелять такое ружьё не может, о чём я и сообщил Чингачгуку.
Тот напрягся, засопел, говорит: «Иди, ставь пустые бутыли на восемьдесят сагов». Пошёл, расставил на камнях тару, ждём, чё будет. Это надо было видеть! Абориген сделал пять выстрелов секунды за три, наверное, и не оставил ни единой целой бутылки! Собрал с пола стреляные гильзы и сунул их в карман. Затем зарядил ружьё снова, и мне протягивает.
Ну, пошёл я, расставил ещё пять бутылок. Целюсь: далеко! Если бы с дробовика, я бы запросто их положил, а с пули – трудновато. Выпулил пять патронов – ни одного попадания. Видел, как одна пуля выбила пыль метрах в двух от бутылки, в которую целился.
– Однако стрелять совсем не умеес…
– Да это ружьё у тебя такое! С таким раздолбанным каналом ствола оно вообще должно не стрелять, а выплёвывать пули под ноги.
– Показать есё, как стрелять нада?
– Чё, патронов не жаль?
– Та… У меня пуль и пороха на дивизию хватит. И масынка для зарядки тозе есть. Да и рузей у меня таких три стуки.
– Да ты чё!!! А продай одну?!
– А мне деньги не нузны. Мне мотоциклетка нада. Тёся болеет, тязело ей на коне в больницу ездить. А в люльке на мотоциклетке я её буду, как сарису, возить.
– Блин горелый! Прям сейчас забирай!
– Сяс не могу, надо оленей в стадо отогнать. Завтра нотью песком за мотоциклеткой приду.
– Так мы сегодня уезжаем!
– Ну и сто. Рузьё забирай, мотоциклетку тут оставь. Клюти только сразу отдай.
– А если скомуниздят?
– Кто? Насы не возьмут. Васы – если возьмут, то пуля в баску прилетит.
Вот так у них, чингачгуков, всё просто. Чуть что – и «пуля в баску». Зато всё по-честному!»
О как, Иваныч! Они дети тайги, люди с другой планеты!
И тут послышался звериный рык, палатка заходила ходуном, и на поляну выполз лохматый, опухший Толик Позин.
Сначала схватился за ручку большого закопчённого чайника, но тут же оставил его в покое. Ему явно требовалась холодная жидкость, а не кипяток. Пошарил мутным, заспанным взором по сторонам, и взгляд остановился на кастрюле с варёной головой налима. Толик взял со стола кружку и зачерпнул из кастрюли бульон. Одним жадным глотком опорожнил её и довольно крякнул. Заулыбался, скорчив гримасу райского блаженства, утер пот со лба, уселся за стол, закинув ногу на ногу, и умиротворённо заурчал, словно сытый кот. Затем притих, ахнул и пристально посмотрел назад, обернувшись через левое плечо.
Лярвы
– Фу ты, блин-малина, опять лярва ко мне присосалась.
– Кто к тебе присосался?
– Да ладно, проехали. Пойду коня привяжу, – и скрылся в кустах за палаткой. Возвращается, застёгивая на ходу ширинку, и громовым голосом просит:
– Парни! Дайте пожрать чё-нить.
– Выбирай. Есть налим вчерашний запечённый, есть хариус сегодняшний, жареный, и уха тоже есть. Можешь есть, – каламбурит Серёга.
Толик садится на скамейку, рассеянно оглядывается по сторонам, затем осторожно берёт хариуса. Пожевав немного, сообщает, что он несолёный, и берётся за налима. Опять не угодили. Запускает клешню в кастрюлю с налимьей головой, отщипывает мясистую щёку и отправляет в рот. Театрально изображает смертельную му́ку на лице и жалобно так скулит: «Ребят! Может, есть чё-нить бульнуть у нас?» Мы валимся со скамеек от смеха: «Не, Толян! Сухой закон, однако!»
– Да кто же его выдумал-то!
– Генсек наш, начальник партии! – покатывается Лось, схватившись обеими руками за отросшие за лето патлы на голове.
– Умники тут собрались, как я погляжу. Человек умереть может в любую минуту, а им всё смехулёчки…
– Да ладно, – хитро щурится Вася. Чайку с мятой попей, глядишь, и отпустит, если расскажешь, что там тебе привиделось, какая там тебя лярва посетила?
– Насыпай, а там посмотрим.
Вася наливает Толику чай в зелёную кружку и суёт её ему в раскрытую ладонь. Тот посидел с полминуты молча, не двигаясь, затем, по обыкновению, отпил полкружки одним глотком и, заметно погрустнев, уселся завтракать. Мы терпеливо ждём и в полной тишине наблюдаем, как во чреве «повара стратегического назначения» исчезает крупный кусок налима. Вдруг его губы внезапно замерли, а глаза уставились в невидимую для всех, кроме Толика, точку пространства.
– Ну что, Толян, сломался? Слово не воробей, давай, рассказывай.
– Лады. Тока не ржать. Услышу хоть один смехулёчек – умолкаю навечно! – Толик торжественно указал пальцем в небо.
– Всё, давай, не тяни резину.
– Ну, слушайте.
Впервые с лярвой я повстречался ещё на родине, в Вяземском. Мне тогда лет десять было, наверное. Ночью просыпаюсь, глаза открываю и смотрю, как напротив меня на стене ходики тикают. Свет от уличного фонаря падает аккурат на часы, и вижу, стрелки показывают три двадцать. Что-то громко они тикают, думаю, а они всё громче и громче. Уже не тиканье, а грохот, как от грузового состава. И самое главное, тикают-то всё быстрее и быстрее, разгоняются так, что кажется, будто они вот-вот разлетятся по всей комнате на тысячи шестерёнок.
Страшно стало, аж жуть! Хочу глаза закрыть, а веки словно окаменели. Пытаюсь руку поднять – словно свинцом налилась. Ни ногой не пошевелить, ни рукой, ни вздохнуть даже. Как будто гирю на грудь положили. Я – кричать, чтоб маму позвать, а рот не открывается. Ну, всё, думаю, каюк. Тело парализовано, дышать не могу, значит, скоро задохнусь, и будет мама горько плакать. Вдруг ходики стали тише тикать, и всё медленнее. Скоро всё нормализовалось, а я, как ошпаренный, вылетел из-под одеяла. К мамке под одеяло забрался с головой, дрожу весь, прижался к ней и плачу, плачу, слёзы ручьём льются, а я молча, про себя, рыдаю, остановиться не могу.
– Что с тобой, сына? Дурной сон привиделся?
– Да-а! – соврал я маме. Но скоро успокоился и заснул.
Второй раз эта фигня случилась недели через две. Всё было точь-в-точь, только я уже был спокойнее, знал, что будет после, и уже к маме не побежал. И постепенно я к этой штуке привык и даже уже скучал, если долго такого не случалось. А летом в Баргузине соседка бабушки, старая бурятка, посмотрела на меня как-то особенно и спрашивает:
– Внучок, а ты, часом, не болен?
– Нет, – говорю, – всё нормально.
– А спишь хорошо?
Тут меня столбняк охватил. Блин! Откуда она знает? А старуха смотрит на меня своими узкими глазками пристально так, и я понимаю, что она видит меня насквозь. Она всё про меня знает: и про ходики, и про паралич по ночам – и прекрасно видит, что я сейчас ей вру.
– Всё ясно. Лярву ты подцепил.
– Чего-о-о?
– Любишь пирожки с морковкой?
– Не-е-е! Я с брусникой люблю!
– А у меня и такие, и такие приготовлены. Пойдём ко мне, я тебя угощу.
Захожу в дом, бабка засуетилась, Чайник на плиту поставила, сняла полотенце с тазика и ставит его на круглый стол, крытый плюшевой скатертью с бахромой. Целый таз румяных пирожков! А запа-а-ах! Вот тогда-то я и полюбил пирожки с морковкой. Бабка налила чай в пиалу и, разбавив его молоком, ставит передо мной. Беру пирожок, откусываю, а там – морковка.
– А которые с брусникой?
– Слушай, как тебя, Толик? Я совсем забыла, сын мой Генка заезжал сегодня, так он с брусникой-то все и забрал. Ничего! Ешь эти. Тебе понравятся.
Начал есть, и точно – колдовство! Такими вкусными показались, вроде в жизни ничего вкуснее не ел. И чай! О-о-о, какой у старухи был вкусный чай! Раньше я его с молоком никогда не пил, казалось, бурда какая-то, но тут! В общем, я тогда стрескал полтаза пирожков с морковкой и целый чайник чая опустошил. А тут гляжу в трельяж у стены, меж окон, и вижу, как старая у меня за спиной из комода какие-то пучки с травой достаёт, и свеча зажжённая стоит. Она думала, что я не вижу, на затылке ж нет глаз, а я всё видел в отражении зеркала. Жую пирожки и дивлюсь. Надо же, думаю, неужели к ведьме попал? Может, она меня сейчас усыпит и в печи изжарит?
А старая что-то шепчет тихонько по-своему, по-бурятски, наверное, или колдовские заклинания какие-то. Пучки травы поджигает и машет у меня за спиной. Рожа страшная такая! Подула на пучок с травой, последние искры потухли, и руками стала водить, какие-то иероглифы в воздухе чертить. Потом свечу задула и заулыбалась, довольная.
– Бабуль! А что вот Вы сейчас у меня за спиной делали?
– А! Так, ничего, Толик. Ничего плохого, не бойся, – засмеялась бабка. И так как-то душевно, по-родному, звучал её смех, что мне захотелось прижаться к ней и расплакаться. Чувство было такое, словно с ног гири сняли. Легко, радостно стало, показалось, что могу взлететь, как птица. Бабка обняла меня сзади, в макушку поцеловала и говорит:
– Всё, милый, не тревожься. Больше тебя твоя лярва пугать не будет, и всё у тебя в жизни будет хорошо. Но только если учиться будешь на пятёрки, потом работать будешь усердно, и водку не пей никогда!
– Бабуля! А что такое лярва?
– Это, внучок, злой дух. Женщина, которую не принимают в обители предков. Их много среди нас, только мало кто может их разглядеть. Ты разглядел, я знаю.
– Нет! Я ничего не видел, только тело всё немеет во сне.
– Знаю, знаю! Но другие даже этого не замечают.
– А что им, лярвам, от людей нужно?
– Ум. Они подыхают без ума человека, поэтому присасываются к тем людям, у кого ум есть, а пользоваться им не умеют. Они, как невидимки, сидят у человека на шее и сосут, сосут постепенно из человека мозги. Если человек не знает о том, что лярва к нему присосалась, то постепенно становится глупым. Не видит того, что вокруг происходит, а видит то, чего нет. Ленивым становится, равнодушным, начинает водку пить, жену и детей бить и постепенно с ума сходит.
– Как Гитлер?
– Не знаю. Там, может, всё ещё хуже было. Может, когда вырастешь, сам во всём разберёшься…
Я вырос, но так ни в чём и не разобрался. Наоборот, всё перепуталось. Моя Гуля дождалась меня из армии, я начал работать в лесничестве, она – нормировщиком там же, мы поженились, и всё у нас было комильфо.
Но пришла в наш дом беда. Ребёночек наш родился мёртвым, и Гуля запила от горя. Как я ни бился, но не смог победить её лярву. К тому времени я их научился уже видеть глазами, но не уберёг… Руки на себя наложила моя красавица, – Толик всхлипнул, как ребёнок, и по его щекам потекли ручейки слёз.
Похоронил Гуленьку рядом с сыночком, голоса которого я так и не слышал ни разу. И начал я буха́ть по-чёрному. А тут вскоре мама внезапно умерла. Остался я один, как перст. Думаю, хоть бы меня гром разразил! Деревом задавило, машина сбила – ну что мне тут делать, в этом мире, если мои все уже ТАМ?
Ответ я вскоре получил. Сижу у трёх могилок, пью горькую без закуси, и вдруг над могилкой жены появляется столб! Видели, как воздух колышется над нагретой поверхностью? Вот! То же самое из себя представляет и лярва. Только имеет чёткую форму и очертания. Колышущийся столб метра два ростом и вот такой ширины, – Толик обозначит ладонями пространство сантиметров тридцать – тридцать пять. Но самое главное – я узнал эту лярву. Это была моя Гуля! Она стала лярвой, и в тот момент я понял, почему самоубийство считается великим грехом!
Швырнул недопитую бутылку в кусты и со всех ног домой бросился. Спать! Проснулся, побрился, привёл себя в порядок и бегом в контору – писать заяву об увольнении. Вещей никаких не взял, только документы и фотографии, и давай делать ноги из этого проклятого для меня места. Через месяц я уже был на Арэсе.
– Но лярва тебя настигла, – утвердительно изрёк Лихой.
– Сам видишь, – горько молвил Позин. – Но хрен ей! Я ей не дамся до конца! Я бы уже с ней покончил, но не могу! Это же моя Гуленька, понимаешь?!
– Прости, Толян. Мы столько лет с тобой друзья, но я ничего не знал о тебе. Прости, друг!
– А как бы ты с ней покончил? – спросил я.
– Просто. Когда увидишь рядом с собой колышущийся столб, нужно протянуть руку и как бы пронзить его насквозь, и представлять мысленно, что твоя рука – это огненный меч. В этот момент в ушах такой визг стоит, оглохнуть можно. Но окружающие ничего не замечают. Несколько тварей я прикончил окончательно, а несколько штук в последний момент срывались и уползали зализывать раны, но назад уже никогда не возвращались. А ведь ты их видел! Нет? – Толик пристально уставился мне в глаза.
– Нет. Столбы не видел. А ускорение времени и паралич мне знакомы. Ты описал всё очень точно. Я никому не говорил об этом. Думал, в психушку отправят.
– Но сейчас ты чистенький! Ничего из тебя мозг не сосёт.
– Нафиг-нафиг! К терапевту! Предупреди сразу же, если увидишь у меня на шее какую-нибудь падлу.
Над столом повисло неловкое молчание, и Лихой решил перевести разговор на другую тему:
– Ребята! Сегодня поутру не слыхали стрел ниже по течению?
– Нет.
– Я не слышал.
– Был стрел, был. Я чётко слышал, когда зубы чистил на речке, – подтвердил Серёга Иванов.
– Предлагаешь сходить посмотреть, кто там браконьерит?
– Ну, а чего без дела сидеть? По пути донки расставим. Кто со мной? – спросил бригадир, надевая форменную куртку с дубовыми листьями на зелёных петлицах и фуражку.
– Толик! Наживки для донок нет. Давай быстренько черпанём гольянов?
– Давай. Есть марля?
– Сейчас, я мигом, – несусь в палатку, где в моём рюкзаке всегда лежит про запас «сеть» для ловли гольянов, обычный отрез медицинской марли размером метр на полтора.
Идём к берегу, к мелководному плёсу, где прогретая солнцем вода «вскипает» от бесчисленного множества этих мелких рыбёшек. Гольяны годятся не только для наживки. Они, обсыпанные мукой с солью, мгновенно жарятся на сковороде в растительном масле, причём ни чистить, ни потрошить их нет надобности. Во время жарки источают удивительно аппетитный аромат, что является большим плюсом для тех, кто не выносит запаха свежей рыбы. Блюдо получается отменное. Вкусное, сытное, и при этом красивое.
Рис. 3
Гольяны. Фото находится в открытом доступе в сети Интернет