Тёзка Ломоносова, Михаил Васильевич Остроградский, – первый встреченный им в жизни гений (он встретит их, надо сказать, не так уж много). Остроградский преподавал математику – и о том, как он её преподавал, ходили легенды. Его знали в Европе. «Каково идёт учёность?» – осведомлялся при встрече государь Николай Павлович. «Очень хорошо, Ваше Императорское Величество», – отвечал Остроградский.
«…Не терплю математики», – признаётся Достоевский, может быть, поражённый тем, чего достиг в этом деле его гениальный учитель и чего ему самому никогда не достичь. Но наставник и не призывал к подражанию. Его заботит другое.
И в лекциях, и в печатных трудах академик не устаёт повторять: надо быть первым в своём деле.
Достоевский желает быть первым.
Но пока он оставлен на второй год.
Последнее происшествие, при известии о котором папеньку чуть было не хватил удар (а пожалуй что и хватил), произвело не меньшее впечатление и на самого потерпевшего: с ним, по его словам, «сделалось дурно». Это немудрено: здесь жестоко страдало самолюбие и – уже не впервой – оскорблённое чувство справедливости. Помимо прочего, неперевод в следующий класс открывал добавочную статью родительских расходов.
«Мы не знаем, что Вам вздумалось, милый папенька, писать к нам о деньгах. О! у нас их ещё очень много», – бодро сообщают братья летом 1837 г., в первые месяцы своего столичного житья. Кажется, это единственный случай: более они никогда не решатся на столь легкомысленные заявления.
Почти все письма Достоевского к Михаилу Андреевичу полны просьб о денежном вспомоществовании. Почтительный сын, он никогда не просит денег просто так – аккордно и неподотчётно, он самым подробнейшим образом исчисляет свои – в большинстве своём крайние – нужды. Так, извещая Достоевскогостаршего, что решительно все его новые товарищи обзавелись собственными киверами, он тонко даёт понять неизбежность и для себя этих чрезвычайных трат. Дело, оказывается, отнюдь не в стремлении не отстать от прочих, а главным образом в том, что старый его кивер «мог бы броситься в глаза царю».
Подобные аргументы, долженствующие, по мысли автора, продемонстрировать его непосредственную близость к источнику власти (и произвести тем самым неотразимое действие на законопослушного родителя), эти государственные мотивы сменяются со временем доводами более прозаическими: «…я прошу у Вас хоть что-нибудь мне на сапоги в лагери, потому что туда надо запасаться этим».
О возможном неудовольствии монарха по поводу не совсем исправных сапог на сей раз умалчивается.
Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна утверждает, что её дед «владел имением и деньгами, которые он копил для приданого своим дочерям», а посему будущего автора «Преступления и наказания» глубоко возмущали те лишения и унижения, которым его «подвергала скупость отца».
Любовь Фёдоровна по обыкновению несколько преувеличивает: мы знаем, что «именье» не приносило почти никакого дохода, а приданым для дочерей пришлось озаботиться всё тем же Куманиным. Сам Достоевский ни разу – ни прямо, ни косвенно – не попрекает отца за прижимистость. Наоборот, он всячески пытается войти в его положение. «Боже мой! Долго ли я ещё буду брать у Вас последнее… Знаю, что мы бедны». Он говорит, что, если бы он обретался «на воле», он бы не требовал от отца ни копейки: «…я обжился бы с железною нуждою».
Отметим в скобках энергическую точность эпитета.
Те материальные и сопряжённые с ними нравственные стеснения, о которых он повествует в письмах к отцу и брату, отнюдь не досужий плод его юношеских фантазий. Он действительно принуждён отказываться от многих благ, которыми походя пользуются его более обеспеченные соученики. Уместно всё же предположить, что воспитанники одного из самых престижных военноучебных заведений с голоду не пухли…
Здесь, пожалуй, впервые явила себя одна из характернейших его черт. Он всегда был склонен драматизировать свои обстоятельства.
П.?П. СемёновТянШанский, обитавший в том же полевом лагере, что и Достоевский, свидетельствует: ему самому на все лагерные надобности хватало десяти рублей. А поскольку казённый чай давали утром и вечером, он вполне обходился без своего чая.
На этом сюжете мы обещали остановиться подробней.
Испрашивая у отца необходимые ему сорок рублей, Достоевский настоятельно подчёркивает, что он не включает в эту сумму расходы на чай и сахар. При этом даётся понять, что чай – не роскошь, а средство существования, ибо в условиях лагерного житья отсутствие этого ободряющего напитка влечёт невосполнимый ущерб здоровью. Но – тут следует самое патетическое место: «Но всё-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю».
Такое самоотвержение призвано было до глубины потрясти душу чадолюбивого родителя. Что, собственно, и входило в авторский замысел. Благородный отказ от предмета первой необходимости (только в силу бесконечной сыновней покорности трактуемого как баловство: «Что же, не пив чаю, не умрёшь с голода»), эта добровольно приносимая жертва оборачивалась немым укором. Уж если в уважении родительских нужд отказывают себе в таком невинном удовольствии, надо иметь воистину каменное жестокосердие, чтобы немедленно не удовлетворить все прочие пожелания бескорыстного просителя – хотя бы в вознаграждение за его стоический дух.
И тут, откуда ни возьмись, вновь возникает уже знакомый павловский мотив. «Однажды училище почтила Своим посещением… вдовствующая Императрица Мария Фёдоровна. Осведомясь о пище кондукторов, Ея Величество приказала дозволить им по вечерам пить чай, для чего и подарила училищу самовар. В то время во всех прочих военноучебных заведениях чай положительно не допускался»?[14 - Максимовский М.?С. Исторический очерк развития Главного Инженерного училища. 1819–1869. СПб., 1879. 1я пагин. С. 111.].
В тоне официального историографа Училища, запечатлевшего этот замечательный, но, увы, пропущенный потомками факт, звучит законная гордость. Высочайше пожалованный чай – привилегия не менее почётная, чем отсутствие телесных наказаний. Поддержание доброй традиции в полевых условиях (уже на собственный счёт) становится делом чести.
Конечно, чай – только знак, символ нравственной независимости (СемёновТянШанский замечает, что чаепитие носило скорее ритуальный характер – «чтобы не отстать от других товарищей»). И хотя нелепо (вслед за Страховым) отождествлять автора «Записок из подполья» с его героем, нельзя упускать из виду, что слова подпольного парадоксалиста («Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить») могли заключать в себе реминисцентную пародию: во?первых, некоторых реальных обстоятельств авторской юности?[15 - Кстати, фамилия одного из персонажей «Записок из подполья», школьного товарища героя, – Зверков (лицо, надо признать, малосимпатичное). В списках воспитанников Главного инженерного училища находим: Зверков Харлампий, в 1842 г. выпущен из кондукторского класса юнкером в 4й Саперный батальон. (См.: Максимовский М.?С. Указ. соч. 2я пагин. С. 100).], а во?вторых, той эпистолярной методики, которая использовалась в сношениях с отцом.
Молодой Достоевский решает вопрос в пользу «света»: впрочем, последнее даётся ему не без известных усилий.
…Михаил Андреевич ещё успеет отозваться на указанное письмо. Он изобразит картину надвинувшейся беды: чёрные выжженные поля, обнажённые для корма скоту крыши, безысходность, отчаяние и гибель. Он высылает просимую сыном сумму, уведомляя, что не скоро сможет возобновить присылки. И – как бы в усиление его слов – это даяние оказывается последним.
На что способен народ
Надо признать, что малоподвижная судебная машина действует хотя медленно, но последовательно, не обходя ни одного из возникающих обстоятельств и формально исполняя все требования закона. Уездный суд надёжно страхует себя от возможных обвинений в недобросовестности или попытках замять дело. При этом главная ответственность перелагается на земский суд.
Удивительно другое. В 1925 г. деревенские старожилы – с чужих, разумеется, слов – «вспоминают» подробности (во многом совпадающие, заметим, с теми, что приводятся в воспоминаниях Андрея Михайловича). Так, сквозь тьму времён доходит известие, что в момент покушения «навоз мужики возили». Эта устойчивая деталь, фигурирующая также и в официальных бумагах, как бы намекает на тайное равноправие обеих версий…
Допустим и «промежуточный» вариант: припадок и смерть, последовавшие в результате нападения.
Апоплексический удар под бесцветным, пустым, выжженным июньским небом столь же вероятен, как и зверское умерщвление опостылевшего и распутного помещика. Среди убийц находились и родственники 16летней Катерины, которая незадолго до того прижила от барина вскоре умершее дитя. А само нападение, по некоторым сведениям, совершилось во дворе крестьянина Ефимова – двоюродного брата Катерины. «Убийство Михаила Андреевича, – замечает Нечаева, – …имело особый характер (сдавливание гениталий. – И. В.), который может быть истолкован как месть за женщину». Надо думать, однако, что метод предполагал прежде всего неоставление улик. Иначе – если длить аналогию – вливание в барскую глотку бутылки спирта тоже может быть истолковано в сугубо символическом смысле…
Ч. Б., разумеется, не может проигнорировать такой сюжет. Его не удовлетворяет скупая информация Андрея Михайловича («Катя… была огоньдевчонка»), и он смелыми мазками дополняет картину: «рано развившаяся девочка с широкими бедрами и пышной грудью (вот, вот они, недостающие подробности, уличающие, но отчасти и оправдывающие поздние мужские порывы Михаила Андреевича! – И. В.), так не соответствующими её тонкому, скорбному лицу и тихим, задумчивым глазам…» (само собой, с «задумчивыми глазами» более гармонировали бы узкие бедра). Оказывается, вовсе не маменьку ревновал несовершеннолетний Федюша, а пышногрудую горничную отца: какое, однако, посрамление для фрейдистов! Но и её настигает рок. «…Катерину вытащили из неумело прилаженной на сеновале петли», – горько заключает Ч. Б.: бестактно вопрошать подлинного художника, откуда он известился об этом не отражённом ни в одном источнике приключении…
Откуда, собственно, пошёл слух? Почему у Хотяинцевых возникли подозрения о насильственной смерти соседа? Лейбрехт, говорящий с их слов, утверждает, что «какаято девка Гна Достоевского слышала крик его, и чтобы она о том никому не говорила брат её запрещал».
Какая такая «девка»? И какой такой «брат»?
Известно, что после появления первенца – незаконнорожденного сына Михаила Андреевича – Катерина была возвращена из господского дома в деревню, в семью своего двоюродного брата (она была сирота). Именно у него во дворе, по словам крестьян, совершилось убийство.
«Девка Гна Достоевского» – очень похоже, что это всё та же Катерина. Она «слышала крик»: что пробудил он в её смятенной душе? В отличие от Ч. Б., загнавшего бедную самоубийцу на сеновал, у нас нет никаких оснований подозревать Катерину в чувствах, враждебных отцу её ребёнка. Мы бы даже рискнули предположить обратное, хотя сознаём, что такое допущение способно навлечь на нас упрёк в притуплении классового чутья. Молодая мать слышала смертный крик убиваемого. Несмотря на угрозы брата, она могла поведать об услышанном: например, крестьянам Хотяинцева или даже самим Хотяинцевым. Толки дошли до Лейбрехта… Ход делу был дан.
«Ищите женщину!» – радостно восклицаем мы, указуя на тайный движитель преступлений. Но не она ли (женщина) есть и вернейшее средство к разоблачению оных?
Достоевский, по свидетельству очевидцев, не любил говорить об отце. Это объясняют его неприязнью к покойному. Но не вернее ли предположить, что сыновняя сдержанность была вызвана и воспоминаниями о чудовищных подробностях отцовской кончины?
Незадолго до смерти автор «Мёртвого дома» скажет А.?С. Суворину: «Вы не видели того, что я видел… вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи».
Интересно, где именно мог наблюдать он эти проявления слепой и стихийной ярости? На каторге? Разумеется. Хотя там – не столько видел, сколько слышал («страшные истории» – непременная принадлежность каторжного фольклора). Не правильнее ли поэтому отнести его слова о народной ярости к собственному семейному опыту («видел» = «знал»)?
Независимо от того, как отвечаем мы на сакраментальный вопрос, «был ли убит отец Достоевского», трудно предположить, чтобы у самого писателя существовала на этот счёт точка зрения, отличная от семейной. В свою очередь, документы, призванные как будто поколебать уверенность в возможности криминального исхода, цели этой не вполне достигают. Оказывается, что слухи об убийстве отца не позднейшие домыслы, не навет, порождённый мстительным воображением потомков, – о преступлении догадывались современники событий.
Не исключено, правда, что именно «вмешательство» Лейбрехта явилось тем спусковым крючком, который запустил миф о насильственной гибели Михаила Андреевича. То есть как раз тщательное расследование (долгая нерешаемость дела, доследования, допросы крестьян и т. д. и т. п.) породило слухи о криминальной подоплёке события, а услужливая молва подхватила и раздула первоначальные пересуды, персонифицировав предполагаемых участников убийства. Историки в равной мере могут как благодарить дотошного ротмистра, так и ретроспективно журить его.
Но тут различим ещё один поворот темы.
Дом с привидениями
Долгие годы автор «Братьев Карамазовых» проводит в стенах Михайловского замка. Между тем стены эти хранят государственную тайну. Повествуя о пребывании Достоевского в училище, Савельев говорит, что будущий инженер хорошо изучил топографию замка. Думается, его не меньше интересовала история.
События той роковой ночи – с 11 на 12 марта 1801 г., – конечно же, принадлежали к числу самых захватывающих училищных преданий. Надо полагать, дошли и коекакие детали. Спальня императора – та самая – не была доступна для обозрения, что, конечно, усугубляло её мрачную репутацию. Окровавленный призрак (как и положено призракам) скитался по лестницам и переходам замка – порой не без помощи изобретательных «кадетов». Не для его ли успокоения основал позднее Александр II домовую церковь – на месте бывшей царской опочивальни?
Павловский мотив возникает вновь.
И отец Достоевского, и император Павел Петрович оказались умерщвлёнными тайно. И в том, и в другом случае официальная версия гласила, что они скончались скоропостижно. Совпадает даже диагноз: апоплексический удар. И тогда, и теперь (как можно предположить) медицинские заключения были фальсифицированы. В обоих случаях обстоятельства кончины не являлись секретом для окружающих, но о них не принято было говорить вслух. И, наконец, оба убиения сопровождались достаточно отвратительными подробностями.
«Бывают странные сближенья», – сказал Пушкин.
Разумеется, гвардейский заговор, имевший целью смену царствования, мало напоминает мужицкое возмущение (хотя в последнем случае тоже можно обнаружить элементы умысла или сговора). Скарятинский шарф и массивная золотая табакерка, послужившие орудиями убийства, конечно, несопоставимы с бутылкой спирта и прочими пособиями, употреблёнными для аналогичной цели. (И там, и здесь выдержан соответствующий социальный уровень, но наиболее чудовищная деталь в обоих случаях совпадает.) Проницательный обществовед мог бы добавить, что ни то, ни другое происшествие не повлекло за собой изменений самой системы. Однако последнее соображение вряд ли нам пригодится.
И тем не менее. Странное схождение разновременных и тайно аукающихся обстоятельств могло оставить глубокий след: не только в душе 17-летнего юноши, но и в его дальнейшей деятельности.
Речь идёт о «Братьях Карамазовых».



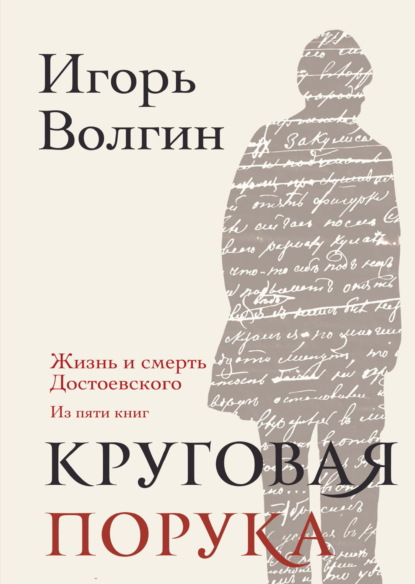




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0