БАНКО
Конечно, часто с умыслом лукавым
Клевреты мрака говорят нам правду,
Нас обольщают истиной в безделке.
Чтоб погубить изменою в важнейшем?[20 - Шекспир В. Макбет / Пер. с англ. М.?В. СПб., 1837. С. 11, 13.].
Как видим, «мыльные пузыри» здесь ни при чём. Имеются в виду вовсе не они, а те самые «пузыри земли», на которых спустя десятилетия неосторожно споткнутся лирические герои Блока[21 - Впрочем, она захотела,Чтоб я читал ей вслух «Макбета».Едва дойдя до пузырей земли,О которых я не могу говорить без волнения,Я заметил, что она тоже волнуетсяИ внимательно смотрит в окно.Оказалось, что большой пёстрый котС трудом лепится по краю крыши,Подстерегая целующихся голубей.Я рассердился больше всего на то,Что целовались не мы, а голуби,И что прошли времена Паоло и Франчески.].
Достоевский в гневе «не опознал» текст. Хотя вряд ли можно усомниться в том, что он, столь высоко ставящий Шекспира и сам увлечённый «шотландским» сюжетом, читал прославленную трагедию в русском или французском переводе. Но если даже он и знаком с «Макбетом», ему «выгоднее» забыть: фигура «свиньиКарепина» уже обрела художественную завершённость, и он, этот образ, несовместим ни с каким Шекспиром.
Приходится слегка уточнить картину. Сухой, рассудочный, велеречиво резонёрствующий Пётр Андреевич (понашему говоря, зануда) неожиданно выказывает ловкий литературный вкус и изящно обыгрывает своего петербургского оппонента (хотя последний уверен как раз в обратном!).
Здесь надлежит закрыть потерявшуюся скобку.
«Даже в отношении Достоевского к родственникам, – замечает М.?П. Алексеев, – сквозит иногда типичная романтическая ненависть к непосвящённым»?[22 - Алексеев М.?П. Ранний друг Достоевского. С. 21.]. Тем важнее для него сочувствие посвящённых.
«Мои письма chef d’oeuvre летристики», – пишет он брату. Между тем уже двинулся в путь его первый – эпистолярный – роман.
Отказавшись от своей доли наследства, он перестаёт быть помещиком и владельцем крепостных душ. И – почти одновременно – лицом, состоящим на государственной службе.
Если высочайшая резолюция, за некую архитектурную погрешность гневно поименовавшая его дураком, не очередной биографический миф, тогда, похоже, это автобиографический розыгрыш или самооговор. О.?Ф. Миллер усматривает в данной истории своего рода lapsus memoriae (ошибку памяти), возникшую на основе другого случая – оплошности Достоевского при титуловании великого князя Михаила Павловича («превосходительство» вместо «высочества», что вызвало августейшую реплику – «посылают же таких дураков»). С другой стороны, настаивая на подлинности своей версии (о нелицеприятном царском резюме), доктор Яновский добавляет, что на его вопрос, почему Достоевский оставил инженерную карьеру, последний якобы отвечал: «Нельзя, не могу, скверную кличку дал мне государь, а ведь известно, что иные клички держатся до могилы…» Николай Павлович действительно имел обыкновение лично рассматривать даже второстепенные архитектурные проекты. (В 1831 г. на плане одной из построек Мариинской больницы для бедных государь собственноручно начертал: «Украшение это походит на древнюю гробницу»?[23 - Историческая записка о Московской Мариинской больнице для бедных. С. 69.], что в ретроспективе может выглядеть как «рифма» к сюжету, изложенному Яновским.)
Как бы то ни было, монаршее вопрошение на эскизе лишённой ворот крепости – («Какой дурак это чертил») – вся эта туманная, но вместе с тем поучительная история имела в виду намекнуть на личное вмешательство императора в его судьбу. Через несколько лет этот неосторожный намёк овеществится в подлинной царской сентенции – на приговоре: государство отечески наложит на него свою карающую руку.
Пока же, в 1844 г., он разрывает тяготившие его узы, чтобы – уже до конца дней – возложить на себя новые бремена.
Сообщаемые родным причины его отставки выглядят не вполне логично. И здесь множественность версий – в том числе грозящее ему откомандирование из Петербурга – затемняет действительную подоплёку событий. Конечно, «служба надоела, как картофель[24 - Кстати, на сленге того времени «картофель» обозначал дамское общество, как выразились бы ныне, «с пониженной социальной ответственностью».]», – в этом можно признаться брату. Но главная цель, которая подвигла его на сей решительный шаг, не называется.
Это поворот судьбы, поступок, как уже говорилось, в чёмто напоминающий уход Михаила Андреевича из отчего дома. Как бы намеренно создаётся экстремальная ситуация: отныне он может рассчитывать только на себя.
Михаил Михайлович горячо уверяет родственников в недюжинных дарованиях брата: москвичам предоставляется право поверить ему на слово. Сверстники (например, Григорович, на всю жизнь запомнивший откровение – о подпрыгивающем пятаке) уже проявили данные им от Бога таланты. Он же в свои 23 года, кроме перевода «Евгении Гранде», ещё не опубликовал ни строки. Тем временем «разлад между чертёжничеством и авторством» (как изящно выражается О.?Ф. Миллер) становится всё невыносимее.
Поэтому он сжигает мосты. Отныне ничто не мешает ему отдаться любимому делу. У него не остаётся никаких иных надежд, кроме этой. Его поступок обличает не только цельность натуры, но и азарт игрока.
Он идёт с козырей.
Из главы 4
Белая ночь
«Это выше сна!»
Осенью 1825 г., завершив «Бориса Годунова», сочинитель «бил в ладоши и кричал, ай да Пушкин, ай да сукин сын!». Через двадцать лет, весной 1845го, Достоевский сухо сообщает брату (речь идёт о «Бедных людях»): «Около половины марта я был готов и доволен».
Сравнение уязвимо. 26летний Пушкин изгнан, признан, любим, почитаем, печатаем, знаменит. Он ни в каком отношении не схож с пребывающим в полной безвестности 23летним самодеятельным автором. И все жё их роднит чувство: то самое, которое заставляет победителя прибегать к сильным выражениям (блоковское, по окончании «Двенадцати» сказанное: «Сегодня я гений», – типологически соответствует пушкинской ликующеизумлённой самооценке) и которое в застенчивой школьной адаптации обретает вполне благородный вид («Ай да молодец!»).
У Достоевского, правда, всё происходит с некоторым замедлением.
Осенью 1844 г. Михаил Михайлович уверяет строгих московских родственников, что не далее как в январе первое сочинение брата явится почтеннейшей публике. И действительно, оно явилось в январе – правда, с задержкой на год. Но в расчётах Михаила Михайловича не было намеренных искажений. Его информация основывалась на сведениях, полученных от самого автора.
Через много лет в «Дневнике писателя» Достоевский заметит, что «Бедные люди» были начаты зимой 1845 г. и что до них он ничего не писал. Оба эти утверждения не вполне точны. «Забыты» (может быть, умышленно) ранние драматические опыты. Но не упомянуты и труды 1844 г.: ведь ещё 30 сентября автор бодро сообщал брату, что роман почти окончен и уже перебеляется для отправки издателю.
Такая хронология психологически объяснима. Автор как бы намеренно игнорирует то, что писалось им до отставки – «параллельно» учению и службе. Он ведёт отсчёт лишь с момента, когда стал свободен: независимость – условие профессионализма.
Не выпустив ещё сочинение из рук, сочинитель уже исчисляет день, когда получит редакционный ответ («к 14му»!). Черта знаменательная. И позднее он будет планировать свои действия (и ответные шаги партнёров) на несколько ходов вперёд, порою жестоко ошибаясь и попадая впросак.
Разумеется, к 14 октября 1844 г. редакционный ответ не последовал – по той причине, что рукопись в редакцию не поступала.
Проходит семь месяцев: вместо уведомления о выходе романа брат извещается о всё новых и новых редакциях и переделках (их можно насчитать не менее пяти). Даже после известного «готов и доволен» рукопись ещё раз подвергается капитальнейшей правке. Стремление к совершенству, как известно, не имеет границ. Но наконец 14 мая 1845 г. автор резким усилием воли пресекает судорожные попытки улучшить текст: «Я слово дал до него не дотрагиваться».
Итак, труд, занявший, очевидно, никак не менее года, благополучно завершён. Но вот странность: подробно информируя корреспондента о ходе работ, Достоевский, как помним, никогда не таивший от брата своих творческих мечтаний, на сей раз воздерживается сообщить, что, собственно, он сочиняет. Роман – это понятно: но о чем, из какой жизни? (Надо надеяться, не из венецианской!) Даже непосредственный свидетель, а именно Григорович, отстранён от каких бы то ни было обсуждений: он видит только множество листов, исписанных мелким бисерным почерком…
Труд совершается прикровенно: до его окончания автор доверяет только собственному суду. Уж не опасается ли он сглаза? Даже название будущего творения оглашению не подлежит.
Трудно сказать, на какой стадии роман получил имя, которое нам известно. Никакие иные варианты заголовка до нас не дошли. Но, кажется, вещь и не могла быть названа иначе.
Имя первого сочинения Достоевского – эпиграф ко всей его будущей прозе.
Однако вернёмся к герою.
Дело было сделано. Оставались сущие пустяки: обнародовать написанное. Но тут в образе мыслей автора вновь обнаруживается странная непоследовательность.
В марте, явно отступив от первоначальных намерений, он уверяет брата, что ни за что не отдаст своё детище в журналы, ибо там рукопись прочтут через полгода, а если и напечатают, то заплатят гроши. Следовательно, выгоднее издавать самому. «…На что мне… слава, когда я пишу из хлеба?» Экономический мотив выставляется нарочито грубо – словно бы в противовес могущим возникнуть романтическим подозрениям. Этот напускной реализм с его демонстративным презрением к причинам высшего порядка как нельзя лучше оттеняет эти последние…
Не проходит и двух месяцев – и настроение снова меняется. «Итак, я решил обратиться к журналам…» Разумеется, к «Отечественным запискам»: где же и начинать, как не здесь – в самом видном и почитаемом органе российской словесности? Именно здесь вершит свои приговоры не ведающий страха (но внушающий его другим!) Виссарион Белинский. Может быть, это имя, вслух, впрочем, не произносимое, и есть решающий довод в пользу журнала? Да и сто тысяч потенциальных читателей (из интересного расчёта – 40 человек на номер!) – дело нешуточное[25 - Достоевский ошибался. Он исходит из того, что тираж «Отечественных записок» равен 2500 экземплярам. Между тем в 1845 г. тираж этот приближался к 4000. Таким образом, если подсчёты будущего автора «Отечественных записок» принимать всерьёз, журнал должна была читать поистине гигантская аудитория.]. Это именно та самая слава, которая ранее высокомерно отвергалась. «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву… Я не переживу смерти моей idеe fixe».
Для литератора, пишущего «из хлеба», подобный максимализм не вполне оправдан.
Достоевский вступил в литературу в мае.
«Прозрачный сумрак, блеск безлунный» как бы подсвечивают этот дебют. Событие совершается ночью, и, как всё совершающееся в ночи, оно приобретает неверный, полуфантастический колорит. Собственно, этого и следовало ожидать, ибо само словосочетание «белая ночь» – отважный поэтический образ. Время как бы вывернуто наизнанку («здесь ночи ходят невпопад» – почти через век усмехнётся Н. Заболоцкий), и в этом зеркальном, изнаночном, неестественноотчётливом мире гулко, как на пустой сцене, перекликаются голоса…
Григорович и Некрасов читают рукопись вслух. (Жаль, что этот высокоторжественный миг не обрёл ещё своего ваятеля и живописца!) У Некрасова, ровесника Достоевского, славного пока лишь удачными издательскими спекуляциями, голос прерывается, и, не выдержав, он стукает ладонью по рукописи: «Ах, чтоб его!» (полная рифма пушкинскому – увы, одинокому – восторгу в Михайловском). Между тем белая ночь длит своё призрачное действо… И вот звучит знаменитое: «Это выше сна!» – и два молодых силуэта уже летят по вымершим петербургским улицам: надо закончить дело до наступления дня. И третий силуэт, качнувшись в распахнутом окне, поднимется им навстречу, изумлённый внезапным приходом двоих…
Ночь белая болезненна, бледна.
Вот юный Достоевский у окна.
Пред ним в слезах Некрасов, Григорович…
Любопытно бы знать: с чем рифмуется Григорович?
При этом (что уже не впервой) сюжет вновь начинает двоиться. Правда, на сей раз – сущие пустяки. Григорович уверяет, что однажды утром Достоевский торжественно призвал его и прочитал вслух своё творение. Восхищённый слушатель (вернее, первослушатель – честь в данном случае немалая!) почти силком забрал у автора рукопись и поспешил доставить её Некрасову. Затем оба читателя посещают Достоевского, а по уходе Некрасова Григорович (последний, натурально, остаётся, ибо он у себя дома), «лёжа на своём диване», ещё долго слышит шаги взволнованного соседа.
Версия самого Достоевского несколько иная. Он говорит, что Григорович в то время жил у Некрасова, которому он, Достоевский, отвёз рукопись самолично. Ночной звонок (у Григоровича стук) в дверь наводит на мысль, что Достоевский, пожалуй, ближе к истине: зачем звонить, если у Григоровича должен иметься собственный ключ? Достоевский определённо говорит об уходе обоих ночных посетителей, что порождает некоторое недоумение относительно диванного свидетельства Григоровича.
Не вполне ясно и то, чем занимался герой в первые часы этой незабываемой судьбоносной ночи. По его позднейшему (адресованному широкой публике) признанию, после отдачи рукописи Некрасову он мирно направился «к одному из прежних товарищей», где и предался занятию, как нельзя более подходящему к случаю. «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» Отчего же не почитать – «и, пожалуй, всю ночь». Он вернулся домой в четыре. Страшно подумать, как выглядела бы история отечественной словесности, если бы любитель поздних чтений замедлил с приходом и ночные гости удалились несолоно хлебавши.
Между тем одна воспоминательница утверждает, что автор «Бедных людей» в тесном дружеском кругу излагал этот хрестоматийный сюжет несколько иначе. Отослав рукопись в редакцию (т. е., очевидно, отдав её Некрасову?) и терзаемый авторскими сомнениями, он якобы ринулся в пучину разврата («закутил с горя») и в ту самую ночь вернулся домой как раз после таких непохвальных отвлечений. Трудно сказать, домысел ли это мемуаристки или лукавый самооговор, имеющий целью подчеркнуть опасную близость порока к чистым источникам творческого труда…



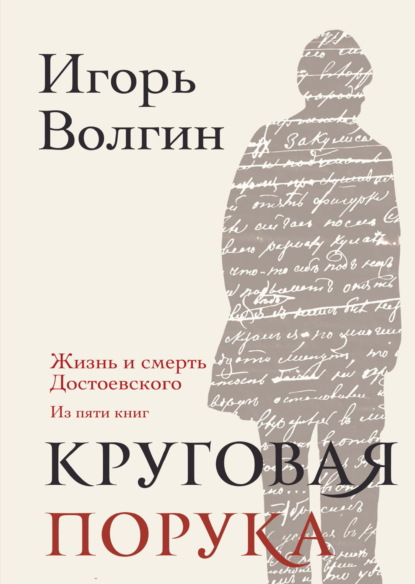




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0