О, разумеется, Тургеневым движут самые тёплые порывы! Что может быть невиннее дружеской затрещины, наносимой бескорыстно и с неподдельной приязнью! И если осмеянное лицо не зовут немедленно присоединиться к общему веселью, то единственно из деликатности чувств: сочинители порой щекотливы, как дети…
«Как всегда, блистал остротами и стёклышком в глазу… Тургенев», – в свою очередь шутит Ч. Б.
А. Я. Панаева туманно говорит о какихто тургеневских стихах «на Девушкина», благодарящего своего создателя, и даже припоминает, что в них часто повторялось характерное для «Бедных людей» слово «маточка» – деталь очень правдоподобная. Однако эти эпиграмматические упражнения до нас не дошли.
Зато – к сожалению, только в отрывках – дошло сочинение другого автора, не менее остроумного, чем Тургенев.
В 1917 г. К.?И. Чуковский, выбрав для этого не самое подходящее время, обнародовал найденные им в бумагах Некрасова черновые наброски какой-то неизвестной доселе повести. Автограф не имел названия, был написан наскоро и испещрён поправками.
«Сначала, – говорит Чуковский, – я не догадался, в чём дело… мне показалось, что предо мной беллетристика, самая обыкновенная повесть о каком-то смешном Глажиевском, авторе “Каменного сердца”, и я уже прочитал страниц пять, когда меня вдруг осенило: да ведь этот Глажиевский – Достоевский!»?[37 - Неизданные произведения Н.?А. Некрасова. Пг., 1918. Т. 1. С. 9. Ср.: Некрасов Н.?А. Каменное сердце. (Повесть из жизни Достоевского). Пг., 1922: С. 11. Рецензируя открытие Чуковского, известный историк М.?К. Лемке (под псевдонимом М. Маврин) неожиданно заявил о существовании литографического издания (тираж – 10 экземпляров) с титулом: «Н.А.Н. “Как я велик!” Повесть из жизни литературного гения. Пермь. Литография Злотникова. 1884. Не продаётся». (См.: Книга и революция. 1920. № 1. С. 34–36). Лемке утверждал, что полный текст повести, опубликованный в Перми, значительно больше отрывка, найденного Чуковским, и состоит из пяти глав. Однако загадочное пермское издание до сих пор не разыскано, и есть основания полагать, что сведения о нём мистифицированы. (См.: Альманах библиофила, 1979. Вып. 7. С. 179–183.)]
Было чему дивиться. Ведь Некрасов так и не написал мемуаров. Новонайденная рукопись частично восполняла этот пробел.
Повесть Некрасова – сочинение ироническое.
Люди 40х годов – тот круг, к которому принадлежал сам автор, – живописуются здесь с нескрываемой насмешкой. (Что, в свою очередь, заставляет вспомнить позднейшие изображения Степана Трофимовича Верховенского в «Бесах».) Досталось всем: Анненкову, Боткину, Панаеву, Григоровичу, литературным сочувствователям… Единственный персонаж, о котором автор отзывается с полным почтением, – это Мерцалов (т. е. Белинский).
Повесть написана, скорее всего, в первой половине 50х годов – в период нахождения одного из её героев в Сибири. Не потому ли сочинение осталось незаконченным?
Достоевский в изображении Некрасова довольно забавен. Он впадает в безумное волнение накануне своего первого визита к Белинскому; он опасается, как тонко замечает автор, «своей физиономией разрушить эффект своего произведения, хотя подобный страх был довольно основательный» (справедливости ради укажем, что это место в рукописи зачёркнуто); он чуть не сбегает в последний момент – у дверей квартиры, где жительствует знаменитый критик. Всё это выглядит вполне достоверно. Следует любопытная подробность: Глажиевский, желая «щегольнуть» развязностью (это одна из двух крайних точек его поведенческой амплитуды), рассказывает Белинскому «анекдот о своём Терентии», который «по незнанию грамоты» закусил пластырем, прописанным ему для наружного употребления. Если припомнить очень похожий случай, отмеченный в мемуарах Андрея Михайловича (где жертвой является сам воспоминатель), тогда закрадывается подозрение, что сообщённый Глажиевским «анекдот» есть художественная трансформация вполне реального происшествия, причём замена родного брата «Терентием» свидетельствует в пользу высокого представления рассказчика о родственной чести.
Глажиевский у Некрасова наивен, бесхитростен, прост – и, может быть, в силу всего этого не только смешон, но и – симпатичен. И хотя трудно согласиться с К.?И. Чуковским, что «вместо сатиры на автора “Бедных людей” Некрасов (нечаянно!) дал блестящую его апологию», следует всё же признать, что по сравнению с другими действующими лицами юный Глажиевский выглядит пристойно.
«Достоевский, милый пыщ…» – сказано в знаменитом «Послании».
Пыщ – значит человек напыщенный, надутый. Однако этот подлежащий осмеянию персонаж именуется «милым»: тональность свидетельствует о том, что объект пародии всё ещё находится внутри дружеского круга.
«Послание Белинского к Достоевскому» сочинено Некрасовым и Тургеневым (возможно, не без содействия Панаева), как полагают, в самом начале 1846 г. (у нас ещё будет возможность уточнить дату). Это коллективное детище не лишено остроумия и литературного блеска. Литературоведы, почитающие серьёзность едва ли не единственной принадлежностью ушедшей исторической жизни, осудительно прилагают к этому дружескому пашквилю эпитет «злой». Однако таковым он становится лишь в контексте дальнейших событий.
Не следует забывать, что зимой 1846 г. Достоевский – один из самых необходимейших «наших». Он не только не враг кружка, он – его главный козырь. Поэтому «Послание» не есть орудие литературной борьбы: это средство для внутреннего употребления.
В «Послании» вовсе не ставится под сомнение правомерность литературных успехов героя: ирония относится лишь к неумеренному их воздействию на его, так сказать, моральное самочувствие. «На носу литературы рдеешь ты как новый прыщ», – не очень, конечно, респектабельно, но среди «своих» вполне допустимо и, учитывая специфику жанра, даже лестно. Неоскорбителен здесь и возможный намёк на гоголевского героя («А знаете ли, что у алжирского бея под самым носом шишка?»): как-никак имеется в виду всё-таки Гоголь, а, скажем, не какой-нибудь барон Брамбеус…
Можно указать на ещё одну гоголевскую аллюзию: «За тобой султан турецкий скоро вышлет визирей». Ирония авторов «Послания» в этом случае не вполне понятна. Однако стоит вспомнить: «До сих пор нет депутации из Испании… Я ожидаю их с часу на час» – и участие в этой литературной игре «Записок сумасшедшего» теперь, кажется, не вызовет сомнений.
Пойдём далее. «Хоть ты юный литератор, но в восторг уж всех поверг. Тебя знает император…» (в одном из вариантов – «любит») – подобная констатация тоже нимало не унижает адресата. Правда, при желании здесь можно усмотреть иронический намёк на уже известную нам высочайшую резолюцию («какой дурак это чертил») – отзыв тем более обидный, если распространить его и на первые литературные опыты бывшего военного инженера. Однако вряд ли авторы «Послания» осведомлены об этой не слишком лестной для героя истории. Остаётся предположить, что до Зимнего дворца действительно дошли какие-то слухи о «Бедных людях», а возможно, был прочитан и сам текст.
Строка «уважает Лейхтенберг» также намекает на какие-то высшие (но, увы, неизвестные нам) обстоятельства, ибо герцог Максимилиан Лейхтенбергский, муж любимой дочери императора, слыл большим поклонником и покровителем изящных искусств[38 - Максимилиан Лейхтенбергский мог узнать о «Бедных людях» от князя В.?Ф. Одоевского, восторженно принявшего роман. Именно к этому периоду относится деловое сотрудничество герцога и князя: в 1846 г. Одоевский избран председателем только что образованного Общества попечения бедных, а герцог – его почётным попечителем. (См.: Русская старина. 1904. № 8. С. 418). Мы, впрочем, далеки от мысли рассматривать возникновение общества как результат прямого педагогического воздействия «Бедных людей».].
Далее в «Послании» следует игривое описание уже упоминавшегося обморока, который, как явствует из других источников, действительно приключился с Достоевским при его представлении некой светской красавице:
Но когда на раут светский
Перед сонмище князей,
Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой…
Да, пасквиль есть пасквиль – и, естественно, он содержит не очень корректную аттестацию наружности пародируемого субъекта, особенно по контрасту с его подразумеваемой собеседницей. (Как помним, внешность Глажиевского не удостоилась одобрения и в прозе.) Сообщается и о грозивших герою опасностях:
…Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть-чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.
Позднейшие комментаторы делают здесь негодующую мину. И в самом деле: нехорошо насмехаться над больным человеком. При этом, однако, забывают, что в указанное время никто из друзей Достоевского (да и он сам) ещё не подозревает у него эпилепсии. (Некрасов в своей повести вскользь упоминает о каком-то ночном обмороке с Глажиевским, но это упоминание указывает скорее на повышенную чувствительность героя, нежели на его болезнь.) Изображённый соавторами конфуз на светском рауте трактуется ими как обыкновенное бытовое происшествие: комизм заключается в несоответствии персонажа предлагаемым обстоятельствам?[39 - Драгоценны в этой связи медиколитературные наблюдения Чувствительного Биографа. Справедливо указав, что припадки «проявляются у добрых под влиянием хищных» и что у Достоевского, как ни странно, встречаются отдельные произведения, где вовсе «нет припадков и обмороков», Ч. Б. проницательно добавляет: «Там упасть некому – не те люди».].
Именно это несоответствие и породило первую строчку. «Витязь горестной фигуры» – конечно же, Рыцарь Печального Образа (в одном из вариантов «Послания» так и сказано: «Рыцарь»).
Но, собственно, почему? Только ли в силу видимой нелепости героя, непригодности его к светской жизни, смеси в нём гордыни, подозрительности и идеализма – всего того, что так зорко подмечено одарёнными памфлетистами? Или – как деликатный намёк на лёгкую его ненормальность? (Тогда, кстати, становится понятной и косвенная отсылка к «Запискам сумасшедшего».) Или, наконец, – как убийственная догадка о некой утаённой платонической страсти (Авдотья – Дуня – Дульсинея): если они действительно догадывались об этом, это ужасно.
Как бы то ни было, бедный идальго понадобился для целей исключительно прикладных. Никто не вспомнил при этом, что он ещё и Алонсо Кихано Добрый.
Много лет спустя и герой «Послания», и один из его сочинителей выскажутся о прототипе.
«…Под словом “Дон Кихот”, – говорит в 1860 г. Тургенев, – мы часто подразумеваем просто шута, – слово “донкихотство” у нас равносильно с словом: нелепость…» Однако, добавляет автор, «этот сумасшедший, странствующий рыцарь – самое нравственное существо в мире».
«Самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душою и один из самых великих сердцем людей…» – «откликается» Достоевский в 1877 г.: тут – случай довольно редкий – он полностью солидарен с вечным своим оппонентом.
«Его фигура (разумеется, горестная! – И. В.) едва ли не самая комическая фигура, когда-либо нарисованная поэтом», – продолжает Тургенев, чрезвычайно высоко ставящий героя Сервантеса и, конечно же, напрочь забывший об игровом соотнесении этого бессмертного персонажа с автором «Двойника».
«Эту самую грустную из книг, – заключает Достоевский, – не забудет взять с собою человек на последний суд Божий».
Он не подозревает, что, защищая Дон Кихота, он защищает себя – того: юного, наивного, простодушного и – смешного. И это незнание даёт ему право высказать мысль, которая в силу полнейшего бескорыстия автора решает спор.
Достоевский говорит, что лучшие качества («величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум») – всё это «обращается ни во что» единственно потому, «что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам… недоставало одного только последнего дара – именно: гения…».
Слово произнесено: не отнесённое к нему самому, оно тем не менее стало его оправданием.
Но этим же даром «оправдан» и Белинский. Ибо подставной автор «Послания» некоторыми своими чертами удивительно напоминает его героя. Белинский – тоже сын лекаря и внук священника. Он существует исключительно литературой: она для него – дело жизни и смерти. (Недаром он говорит, что умрёт на журнале и в гроб велит положить под голову книжку «Отечественных записок».) Разночинец не только по духу, но и по образу жизни, Белинский, как и Достоевский, «очень застенчив» и совершенно теряется в незнакомом обществе. С мягкой (или, как принято говорить, любовной) усмешкой повествует Герцен о его судорожных попытках уклониться от представления некой незнакомой даме: по счастью, этот визит не повёл к такой печальной развязке, как в случае с Достоевским.
Однако и с Белинским случались казусы.
Герцен и Панаев – с равной убедительностью, хотя и с разночтениями – живописуют другой замечательный эпизод. На рауте у князя Одоевского (где, саркастически добавляет Герцен из своего прекрасного далека, «Белинский был совершенно потерян… между каким-нибудь саксонским посланником, не понимавшим ни слова по-русски, и каким-нибудь чиновником III отделения, понимавшим даже те слова, которые умалчивались») критик по неловкости опрокинул столик с вином, и бордо начало «пресерьёзно» поливать белые форменные с золотом панталоны Василия Андреевича Жуковского. «Во время этой суматохи, – говорит автор “Былого и дум”, – Белинский исчез и, близкий к кончине (ср. «и чуть-чуть скоропостижно…»! – И. В.), пешком прибежал домой». По другой – панаевской – версии, дело едва не кончилось обмороком («едва» – может быть, потому, что на вечере не было дам): «Белинский потерял равновесие и упал на пол… хозяин дома… повёл его в свой кабинет, предлагал ему воду, различные нюхательные спирты…»
Герцен воссоздаёт картину с чужих слов, Панаев, можно предположить, присутствовал при сём лично.
«Падение Белинского со стула, – заключает Панаев, – было причиною того, что имя его стало переходить из уст в уста»?[40 - Панаев утверждает, что всё это случилось в канун Нового 184* г. (как тонко заметил один выдающийся писатель, «русские авторы – в силу оригинальной честности нашей литературы – недоговаривают единиц»).]. Как мало надо для славы, добавим мы: ведь популярность Достоевского сильно выросла благодаря очень схожим обстоятельствам.
И тут обнаруживается неожиданный и до сих пор нигде не отмеченный поворот сюжета. Оказывается – об этом в 1882 г. поведал Анне Григорьевне доктор Яновский – Достоевскому тоже довелось наблюдать очень похожую сценку. В доме Виельгорских (что в плане «социальной привязки» равнозначно «литературно-дипломатическому» салону князя Одоевского) верный себе Белинский опрокинул рюмку с вином. Свидетелю этого происшествия, а именно Достоевскому, удалось даже подслушать реплику хозяйки дома, жены графа Соллогуба, в адрес незадачливого гостя: «Они не только неловки и дики, но и неумны». Употреблённое множественное число («они») наводит на мысль, не имелся ли при этом в виду и присутствовавший тут же автор «Бедных людей» (который позднее с горечью скажет Яновскому: «Нас пригласили… для выставки, напоказ»).
Но этого мало.
Чисто теоретически предположив, что оба эпизода (обморок Достоевского и битье посуды Белинским) имеют шанс совместиться в рамках одного и того же вечера, мы в ходе дальнейших разысканий не без изумления убедились, что такая сугубо рабочая гипотеза очень смахивает на правду. (Доказательства будут явлены ниже.) Но тогда существенно меняется вся картина. «Катализатором» обморока могла стать услышанная Достоевским реплика: после неё эмоциональное напряжение достигает предела. Неизвестной прелестнице оставалось лишь повести бровью…
Впрочем, в обморок мог бы упасть и Белинский.
«Я просто боюсь людей; общество ужасает меня, – признаётся он Боткину в 1840 г. – Но если я вижу хорошенькое женское лицо: я умираю – на глаза падает туман, нервы опадают, как при виде удава или гремучей змеи, дыхание прерывается, я в огне»?[41 - Белинский В.?Г. Полн. собр. соч. Т. XI. С. 20.].



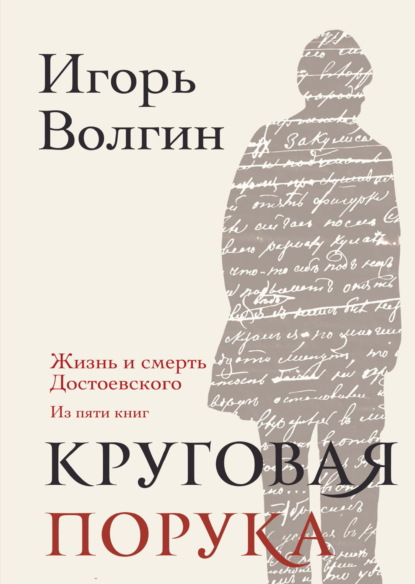




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0