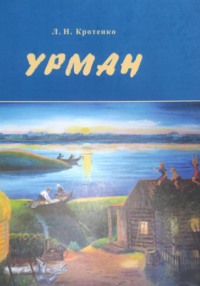
Урман
Думаю, – что мне делать с этой рыбой? Второй день пошёл, как во рту не было ни крошки, а есть не хотел. В темноте с берега разглядел избушку и решил попроситься ночевать. Там жили старик и старушка. Как оказалось – очень славные люди. Пустили меня в дом без разговоров. Я сбегал на берег, набрал крупной рыбы, нам хватило на ужин и на завтрак. Утром ещё притащил старикам рыбы и отправился дальше. Вот до чего были честные люди, – за ночь никто не взял из моей лодки ни одной рыбёшки.
Еду, а рыбы в лодке ещё порядочно. Ладно, думаю, повезу, если протухнет – выброшу за борт. Проехал всего километра четыре – навстречу большая лодка с парусом. В ней человек десять.
– Рыба есть? – Кричат.
– Есть! – Отвечаю.
Подъехали к берегу. Они купили у меня четыре ведра и дали десять рублей. Это была экспедиция таксаторов. Я немного растерялся, не веря своим глазам. Таких денег давно не держал в руках. От волнения забыл сказать им «спасибо». Проехал ещё километров пять. Вдруг слышу, стучит катер – нефтянка. Она так гремит, что слышно её по реке на несколько километров. Приближаюсь к катеру, слышу, кричат:
– Рыба есть?
Заглушили они мотор, я подъехал ближе. Они признали во мне остяка. На катере мне дали за пять вёдер рыбы – восемь рублей. У меня в кармане оказалось восемнадцать рублей. По тем временам это была значительная сумма, считай, зарплата за месяц. Отдохнуть и пообедать остановился на берегу возле посёлка Тюкалинка. Рыбы оставалось ещё с ведро. Развёл на берегу костёр, начистил котелок рыбы, а соли нет. Вспомнил, что продавцом в Тюкалинке работает Терехов. Мы с ним в Рабочем плотничали в одной бригаде. Соль в первые годы ссылки была большим дефицитом и продавалась только своим – поселковым. Терехов соль мне не продал, хотя и просил я всего одну ложку. Он ответил, что соль у него на подотчёте, а вас тут много проезжает. Ладно, думаю, поем без соли. Хлеба тоже нет.
В это время, гляжу, идёт по берегу Беленко Фрося. Она тогда работала в Тюкалинке зав. яслями. Поздоровались. Я рассказал историю смерти матери и про соль. Она сбегала в посёлок и принесла мне целый килограмм. В тот день у костра мы долго разговаривали. Это была наша первая с ней встреча. К вечеру подъехал к Уралке. Там купил рубашку, хлопчатобумажный костюм и кепку.
Мать умерла в то лето, когда мы перешли жить в свой домик. Лес на дом готовили на том же бугорке, где и построились. Там позже родились и вы. Бревна по снегу волочили верёвкой, перекинув её через плечо. Весной ночами я рубил сруб, мама таскала мешком из болота мох. Она уже тогда сильно болела, но нужен был свой дом, своя крыша над головой, в первую очередь для больной матери. День работы на раскорчёвке – мы выматывались из последних сил. Но ночью, будто сам Бог вливал в нас энергию – ведь мы строили своё, хотя и скромное жилье.
Приехал я в Рабочий, подошёл к дверям своего домика, открыл дверь, а войти не решился. Из комнаты на меня пахнуло холодком и до такой степени одиночеством, что, уцепившись за косяк, завыл, как собака. Переступить порог так и не решился. Ночевать пошёл проситься к соседям.
В новом доме прожил всего зиму. Весной раскопал огород и посадил восемь вёдер картошки. Умудрился даже сделать три грядки под турнепс, морковку и редьку. Земля здесь бедная – глина да глина. На нашем бугорке была небольшая низина – болотина. Я раскорчевал её, а там мох сфагнум, а под ним – торф. Изо мха сложил грядки, сверху присыпал глиной и песком. Думал, что-нибудь да вырастет. Не до жиру, как говорится. Все лето работал плотником. Приходил домой с заходом солнца. Немного перекусывал, если было чем, а потом полол огород и поливал грядки. С питанием было туго, но острого голода больше не испытывал. Давали паек: мука, крупа, жир и соль. Наловчился ловить рыбу. Небольшую, мелкой ячейки сеть дал мне парень, остяк, мой ровесник.
Встретил его случайно. Как-то ночью после работы, брёл берегом Нюрольки в поисках ракушек и наткнулся на обласок, у берега. Парень, остяк, складывал в него сети. Мы немного поговорили и познакомились. Звали его Андрей Пернянгин. Он дал мне небольшой обрывок сети и показал, как этой снастью можно поймать щурят на мелководье. Для того, чтобы поставить сеть по всем правилам, нужен обласок. Но о такой роскоши можно было только мечтать. После смерти матери стал понемногу приходить в себя. А потом круглосуточная работа так выматывала, что в короткую передышку спал, как убитый.
Осенью Беленко Сергея Константиновича (будущего твоего деда), Колтуна Ивана, Кунгина Ивана и меня Кулешов отправил в Тюкалинку строить детский дом. Мне разрешили выкопать огород. Овощи я ссыпал не к себе в погреб, а к соседке Дарье Михайловне. В свой домик на зиму пустил сапожника, калеку Никифора Козарезова. Детский дом мы построили за два месяца. Мужики пешком отправились в Рабочий, а меня директор детдома пригласил на работу с детьми. Там я был сыт, одет, обут. Однако, благополучие моё было недолгим. Кулешов, узнав, что я хорошо устроился, срочно приказал мне отбыть в Чижапку на строительство средней школы. Заступиться за меня некому. Комендант подкинул строго:
«Не пойдёшь добровольно, отправлю под конвоем».
ЧИЖАПКА
Директор детдома вызвал меня к себе. Очень хороший был человек. Фамилия его Коренных: «Вот что, Николай, – сказал он мне, – отстоять я тебя не смог, не в моих это силах, но малость для тебя могу сделать. Зайди на склад и передай кладовщику вот эту записку. По ней он отпустит тебе продукты. Возьми сколько сможешь унести. В Чижапке тебе придётся туго». Кулешову, подхалиму и бабнику, он пожелал много нехорошего, о чем писать не положено. Кладовщик выдал мне тридцать килограммов муки и крупы, пять – лапши, сахар, соль, хлеб, сливочное масло и три килограмма солёного мяса. Кроме продуктов – постельные принадлежности: одеяло, подстилка, подушка, тулуп и плотничьи инструменты. Набралось около восьмидесяти килограмм. Смастерил большие санки, погрузил своё добро и пешком отправился в Чижапку.
Был конец декабря. Мороз лютовал, а путь лежал долгий – сорок километров. Из Тюкалинки вышел засветло, с расчётом к вечеру прибыть на место. Шёл по зимнику, который в ледостав прокладывают по Васюгану. В Нарыме меня выручало хорошее здоровье, заложенное природой. Как бы ни голодал, как бы ни надрывался, а выпадет случай поесть досыта, да поспать лишний часок, – уже готов гору свернуть.
В Чижапку добрался поздним вечером уставший, заиндевелый. Поместили меня в барак. Общие нары, засланные соломой, холод, грязь. Посредине помещения длинный стол, в углу железная печка. Варили каждый себе. На печи всем котелкам места не хватало. Набралось нас пятнадцать человек. Мороз с сорока градусов не сдвигался. Рабочий день десять часов. Труд был чудовищно тяжким. Лес мёрзлый, как стекло, а его надо окантовать, ошкурить, вырубить угол, а уж потом в стену.
Продукты мной были быстро съедены, остался на пайке и стал голодать на полную силу. Ел много, ведь работа тяжёлая, на морозе. Дома была картошка, но привезти её было некому. Потом я узнал, что её уже съели. Напрасно все лето старался с огородом. Пришлось с большим сожалением продавать тулуп. Дали мне за него два ведра картошки, десять штук редек и десять штук турнепса. В бараке всё ополовинили, а через неделю я опять голодал. Паёк выдавали только хлебом – семьсот грамм в сутки. Его мы съедали утром за один присест. В обед и вечером подсоленный кипяток, чтобы сбить голод.
Всего на школе работало шестьдесят человек. Сюда же входили вальщики леса и возчики. На тёс и плахи лес пилили маховыми пилами, вручную. На этом поприще работал и я. Напарником был Гардусенко Иван. Лодырь, каких мало, хитрый и лукавый. Месяц с ним мучился, мы даже норму не выполняли, а потом выгнал его и взял в напарники Кучина Володю. Он был левша, но мужик ловкий и сильный, старше меня на пятнадцать лет. Стало мне легче и зарабатывать стали больше – до тридцати рублей в месяц. Заработка хватало только выкупить паек.
Прорабом был Криворотов. Сказать, что был строгим – ничего не сказать. Был зверь, людоед. Издевался над плотниками как хотел. За малейший промах – штраф до десяти рублей. Это треть зарплаты. Приходилось продавать часть пайка и выкупать остаток. Одежда на стройке изнашивалась быстро, а спецодежду тогда не выдавали. Купить не на что. Платили за работу ровно столько, чтобы выкупить паек. Несколько раз на постоялом дворе встречал Кулешова, когда он ехал в Каргасок. Просил привезти мне картошки из Рабочего, но в Каргасок он ездил со своими любовницами, и для моей картошки в «кошёвке» места не было. На мне износилась фуфайка и валенки, а штаны и штопать было не за что. На кальсонах остались одни лохмотья.
Подковырял проволокой валенки, наладил санки и решил бежать. Вначале мелькнула мысль добраться до Новокузнецка. (Я знаю город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в Стране Советской есть). Так Маяковский написал про Новокузнецк, когда там побывал. Строился в Новокузнецке огромный металлургический завод и сам город. Стройка требовала неограниченное число рабочих рук, потому на работу брали всех – с документами и без. Убежавшие, если им, конечно, удавалось «умыкнуть» из ссылки, устраивались на стройку в Новокузнецке.
Ночь перед побегом совсем не спал. Ворочался, прикидывал и так, и эдак, продумывая план рисковой задумки. Кто-то меня выдал и чуть свет я сидел у коменданта на квартире. Фамилия его была Черных. За время двадцатилетней ссылки много сменилось комендантов в Рабочем и других посёлках. Не о многих осталась память как о порядочных. Коменданта Чёрных всю свою жизнь вспоминаю с благодарностью. Он был очень добрым человеком. Несколько раз по моей просьбе выдавал мне дополнительный паёк. Осмотрел он мою одежду, вернее, лохмотья, крякнул как-то по-отцовски и говорит:
– До Каргаска от Чижапки шестьдесят километров. Тебя даже ловить не будут. Через десять километров в такой одежде, босой и голодный замёрзнешь на радость волкам. Садись, поешь, а потом иди к прорабу. Я напишу ему, чтобы сделал тебе расчёт и ступай в Рабочий. Вашему коменданту напишу, что тебя отпустил. Про побег забудь. Не такие ушлые погибали зимой и даже летом.
Криворотов начислил мне окончательный расчёт – три рубля сорок три копейки. Полагалось за полмесяца пятнадцать рублей. Остальное он удержал за квартиру – сырой промёрзший барак. Узнав об этом, Чёрных приказал сделать перерасчёт. Криворотов пересчитал и выдал ещё рубль.
Был апрель тридцать пятого года. Я шёл по васюганскому зимнику, сильно таяло. Портянки вывалились из рваных пимов, намокли. И пимы тоже хоть выжимай. Пройдя шестьдесят километров, глубокой ночью я добрался до дома. За весь путь ни разу не поел – было нечего. Дома, не раздеваясь, просидел до утра и побежал к Дарье Михайловне. Думал, наберу сейчас картошки, редьки и турнепсу, наварю и наемся досыта. Женщина встретила меня со слезами на глазах, явно притворных, печально доложила, что картошка сгнила и она её выбросила. Полезла в погреб, достала два ведра мелочи, как горох:
– Вот, Колюшка, всё, что уцелело.
Принёс я это счастье домой, сварил, поел и пошёл в баню. Я был оборван так, что грешное тело сверкало из дырок со всех сторон. Старуха Некрасова, моя соседка, дала мне покойного деда холщовые кальсоны и холщовую рубаху. В те годы во всех общественных банях были каморки для обжаривания одежды от вшей. Там я прожарил свои лохмотья, хорошо помылся. Дома, как мог, затянул нитками дыры. На завтра была Пасха. Мы, ещё не совсем отбитые властью от Бога, считали её главным праздником в году. В Рабочем Пасху праздновали подпольно. Позже, года через два, когда я уже работал бригадиром на раскорчёвке, женщины попросили меня в этот светлый праздник отпустить их после обеда домой. Я их отпустил, а сам остался на деляне и продолжал работу. За такое самовольство комендант меня арестовал, и две недели я сидел у него в кладовке, как в тюрьме.
Утром на Пасху я ел мелкую картошку, вспоминал родителей, сестренку, наш дом на родине. С восходом солнца звенели на всё село церковные колокола. Праздничные столы ломились от еды. На улицах гуляние: нарядные люди, гармошки, балалайки, песни, игры. Кому надо было всё это поломать? Надел свою драную робу и отправился на улицу. На бугорке перед первым мостом собралась молодёжь. В низинах снег ещё держался за землю, а бугорки уже просохли. Было тепло и безветренно. Солнце, как и положено в Пасху, ослепительно сияло на голубом небе. На бугорке радовалась Пасхе гармошка, а девчата пели что-то грустное. Я до них не дошёл, сел поодаль на огородное прясло и стал смотреть, как гуляет молодёжь. Посидел с часок, чувствую – слёзы на глаза наворачиваются. Не хватало ещё расплакаться. Поднялся и ушёл домой.
По пути к дому меня встретила Кулешова Варвара Кузьмовна – жена Кулешова. Остановилась, даже поздоровалась со мной, чему я крайне удивился.
– Колюшка, – сказала она мне, – Наума Сафоновича сняли с работы. Я сделал вид, что удивился и сочувственно спросил:
– За что?
– Говорят, что заворовался.
Я кивал головой, слушая её, и делал печальное лицо, всё-таки мы из одного села, а про себя думал, что Бог наказал ворюгу. Весь день просидел дома, а утром пошёл к коменданту Иванову. Показал ему справку от коменданта Черных, который писал о том, чтобы мне выдали одежду, обувь и продукты. Иванов выписал мне двадцать килограмм муки, крупу, сахар, соль, масло, кирзовые сапоги, пару белья, фуфайку и рабочий костюм. Все бесплатно. Наверно, он пожалел меня – молодого работящего парня, одетого хуже побирушки. От коменданта я пошёл к Звягинцеву. Он был назначен председателем артели вместо Кулешова. Счетоводом поставили Богера. Хороший, толковый мужик. Главными работами в посёлке были, конечно, раскорчёвка и строительство.
– Пойдёшь пока на раскорчёвку, – сказал мне Звягинцев, – в помощники возьмёшь мою жену и жену Богера.
Много мог бы сказать о девушках и женщинах, сосланных в Васюганье. Ссылочная заваруха для них во сто крат оказалась тяжелее, чем для мужчин. Нечеловеческие условия жизни, умирающие от голода дети, надрывная работа на раскорчёвке леса, на смолокуренном и пихтовом заводах. Мои слова мало что скажут и заденут за живое, а я и сейчас готов снять перед ними шапку и склонить голову. Не подобрать мне слов, чтобы дать нашим женщинам достойную характеристику. Они были НАСТОЯЩИМИ. Да и вам, девчонкам, родившимся здесь в войну, тоже перепало. Сама, дочка, знаешь.
Кулешов до суда был направлен на раскорчёвку и работал один. Мы с помощницами хорошо сработались и стали давать двойную норму. В работе май пролетел незаметно. Мои подручные относились ко мне хорошо. Я не давал им тяжёлое поднимать, а ворочал сам. Они только подчищали площадку, вырубая мелкий березняк и осинник. Пни и колодины я выкорчёвывал один. Думаю, что они же позаботились о том, чтобы председатель выдал мне премию за хорошую работу. И мне выдали хлопчатобумажный костюм, пару белья и рубашку. Я выглядел уже парнем, но с девушками не встречался, – было не до дружбы.
МОИ СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА
Иду как-то вечером с раскорчёвки, устал до последнего вздоха, голодный до тошноты. Паёк давно кончился. Выдавали сразу на месяц, но точно распределить продукты по дням трудно. Крапиву вокруг огорода давно съел. Иду и соображаю, где бы раздобыть ракушек и крапивы? Хотел наварить котёл побольше, чтобы хватило и на утро. Гляжу, у магазина стоят Кулешов и Скоморохов. Кулешов от суда легко отделался. За время председательства успел наворовать столько, что подкупить таких же дельцов не составило труда. Вместо тюрьмы его назначили председателем на Тюкалинку. Выглядел он молодцевато: побрит, одет, как франт, улыбка до ушей. Он окликнул меня, я остановился.
– Что ж, Николай, ты все бобылём ходишь? Живёшь один, как барсук. Одному жить вредно. Спроси хоть у кого.
Хотел сказать ему, что живу один, потому что ты угробил мою мать, но промолчал. В это время я ненавидел его до скрипа зубов. Кулешов улыбался и продолжал издеваться:
– Надо тебе, парень, жениться. Вон бери Нюрку Фигурову. Хорошей будете парой. Лучше тебе не найти.
Фигурова Анна была девушкой некрасивой, с кривыми зубами и кривыми ногами. Её мать звали цыганкой, потому что та занималась ворожбой. Анна была лодырем, каких поискать, но мать в ней души не чаяла – любила и баловала. Во мне вспыхнула обида. Набрался наглости и ответил:
–Наум Сафонович, Нюрку придётся тебе брать в жены. Твоя Варвара Кузьмовна стара и больна. Нюрку ни один парень в жены не возьмёт, а ей ничего не останется, как выйти за старика.
Кулешов залился в смехе и продолжал издеваться:
– Бери тогда Фросю Беленко.
От такой наглости я остолбенел. Фрося была красавица. Прекрасно пела, весёлая, работящая. О такой невесте я и подумать не мог. Сделал вид, что не заметил его издёвки и бодро ответил:
– Вот Фросю и возьму! На свадьбу приглашу тебя первого.
– Ну, ну, – хмыкнул Кулешов.
С тем и отправился я домой варить свой травяной суп.
В начале июля прибыл в Рабочий старшина по обстановке Васюгана бакенами. Фамилия его Нестеров Степан Петрович. Ему требовались два гребца на лодку. Работа была рассчитана до ледостава. Мои напарницы по раскорчёвке, попросили своих мужей – начальников – Звягинцева и Богера направить одним из гребцов меня. Пусть парень отдохнёт.
Через неделю Кулешов уехал в Тюкалинку принимать колхоз, а я ушёл работать гребцом. Зарплату мне положили шестьдесят рублей в месяц, да пятнадцать рублей хлебных. Зарплату следовало отдавать в артель, а хлебные оставлять себе для выкупа пайка. Вторым гребцом взяли Безотесного Сергея. Он был старше меня на год. Работа гребца тяжёлая, зато мы сразу подружились с Сергеем и нашим начальником Степаном Петровичем. Три человека – это весь наш коллектив. Работа пришлась мне по душе. В начале июня вода стояла ещё большая. Пока не обозначился межень, мы больше отдыхали и подрабатывали на перевозке пассажиров. Катера тогда были редкостью, ездили на лодках и обласках. На подработке мы получали в месяц по полсотни рублей и больше. Эти деньги не сдавали в артель, они шли нам в карман. Хлеб на каждого выдавали из сельпо по килограмму в день. Остальные продукты покупали в охотничьих магазинах, потому что установка бакенов предназначалась для безопасного прохождения транспорта рыбаков и охотников.
Когда я отъелся и появился небольшой остаток хлеба, стал раздавать его таким же горемыкам, каким был сам. Оставшихся без родителей детей было так много, что интернаты, построенные почти в каждом посёлке, не могли приютить всех. Русских детей-сирот с большим удовольствием забирали к себе остяки, воспитывая их, как своих. Был на Нюрольке дед – остяк, по фамилии Осачий. Он ходил по посёлкам ссыльных с плакатом, где было написано: «Принимаю сирот». Много наших девушек вышли замуж за остяков, спасаясь от голодной смерти.
В свой дом на лето я пустил жить Некрасовых. В семье их было шесть человек: две девушки и два сына. Старший из них был Никифор. Он от рождения был калека и таскал непослушные ноги на двух костылях. Никифор остался сапожничать в своём доме. Я ночевал у него. Возле умывальника мне втиснули топчан. День и вечер я был занят на работе, а спать мне было все равно где. Питались с семьёй Некрасовых мы вместе. Все заработанные мной деньги, продукты, пойманную рыбу, дичь, орехи отдавал в общий котёл. Мы жили одной семьёй. Они любили меня, считали сыном и думали, что я женюсь на одной из их дочерей. Но я не собирался на них жениться. Они были хорошие девчонки и старались для меня, но мне, здоровому парню, идти в примаки!? Нет, увольте! Я должен сам организовать свою семью и женюсь на той девушке, любовь с которой будет взаимной. Гордости у меня было хоть отбавляй, хотя и нищий. Я и сейчас думаю, что поступил правильно. Был такой Сашка Иващенко. Сирота и тоже нищий. Взяли его к себе тесть с тёщей, а потом всю жизнь упрекали, что из грязи вытащили. А Сашка пахал без разгиба на все их семейство. Тёще все было мало, она бегала по деревне и всем жаловалась на своего непутёвого зятя, которого они по доброте душевной пустили к себе в дом. Оказывается, промахнулись с кормильцем.
Однажды, в начале августа, едем мы на своей бакенской лодке из Шкарино в Рабочий. Было очень жарко, и мы по очереди купались, прыгая из лодки в Васюган. К вечеру остановились на песках напротив устья Нюрольки. Развели костёр, повесили на палочках над костром рыбу, наладили чай, и пока готовилась еда, стали обсуждать предстоящую в Рабочем вечеринку молодёжи. Ни у кого из нас девушки не было. Решили бросать жребий. Написали на бумажках имена девчат и стали тянуть. И совсем неожиданно мне выпала Фрося Беленко. Она тогда дружила с Суязовым Владимиром. Отчаянный парень. Его в деревне побаивались. Все драки между ребятами затевал он, но и сам зачастую ходил в синяках, как черт. Я по характеру не задира, конфликтов избегал, но если случится постоять за себя, то врежу между глаз, – мало не покажется. Девушку, которая выпала по жребию, нужно было обязательно проводить с вечеринки. За невыполнение мы придумали какое-то наказание. Я задумался, как быть? С одной стороны попадёт от Володьки, а с другой – от своих ребят.
Приехали в Рабочий, пришли на вечеринку. Это место мы называли «точек» – за вторым мостом между домами Беленко и Рыбакова. Молодёжь собралась быстро, зазвенела балалайка, все пошли танцевать. Я с разбегу – будь что будет – пригласил Фросю. О Суязове почему-то даже и не вспомнил. Оказалось, что в тот вечер на «точке» его не было. Мы с Фросей покружились, покружились в этой толкучке и ушли. Был тёплый, тихий вечер. Гнус уже пропал. Мы пришли на пристань, уселись на бревно. Брёвен на берегу навалено много, их сплавляли по Васюгану к Рабочему с мест заготовок. В первый вечер нашего общения мы проговорили до утра, а потом стали встречаться, когда выпадет свободное время.
О СЕМЬЕ БЕЛЕНКО
Беленко Сергей Константинович, твой дедушка, был профессиональным портным. Он мало работал на раскорчёвке, только в первые годы ссылки. Когда организовали колхоз, он был колхозным портным. За работу получал трудодни. У них с Ганной, твоей бабушкой, было семь детей. В ссылку выехали девять. В дороге два младенца умерли. Остались четыре дочери и три сына. Старшая из дочерей Анна. Судьбе её не позавидуешь. ( Не родись красивой, а родись счастливой). Красавица была твоя тётка, каких не было, нет и не будет. Тёмно-русая грива блестящих волос спускалась ниже пояса и была такой густоты, что бедной девушке приходилось выстригать пряди, чтобы расчесать такую Богом данную красоту. Её тёмно-синие глаза, улыбка сводили с ума парней не только в Рабочем. И жених был ей под стать – Шапкин Володя. Красивый, грамотный парень. Дело шло к свадьбе, когда он уехал в Томск учиться на агронома. Анна уже ждала ребёнка. Неожиданно для всех он в Томске женился. Видимо, был расчёт остаться в городе. Анна родила сына и в тот же год умерла, надорвавшись на раскорчёвке. Шапкин, узнав о смерти Анны, приехал в Рабочий, забрал сына и больше у нас не появлялся. Фрося была вторая по возрасту. В тридцать третьем году её послали на ясельные курсы. По окончании работала в Тюкалинке заведующей яслями, около года, а потом её направили на курсы ликвидаторов. Закончив их, она преподавала на Урале – учила читать и писать неграмотных. Потом работала в колхозе. В колхозе работала и её сестра – Соня. Третья сестра Мария, вышла замуж и уехала в Ростов-на-Дону. Старший из сыновей Николай, погиб на фронте, ему было девятнадцать лет. Младшие – Володя и Анатолий закончили в Новосибирске институты и в Рабочий не вернулись. Ганна, мать этого огромного семейства, работала в колхозе.
Я много раз упоминал Кулешова. Чтобы ты поняла, что это был за человек, напишу о нем отдельно.
КУЛЕШОВ НАУМ САФОНОВИЧ
Отец его богатый алтайский крестьянин, Ксенофон Матвеевич Кулешов. Его огромные пашни обрабатывали наёмные рабочие. Мужик деловой, хваткий. Не просто так разбогател он на степных алтайских просторах. И все бы хорошо, но не любил он свою жену. Жили, как чужие. Жена не совала нос ни в его дела, ни в любовные похождения.
Один забавный случай до ссылки смаковала вся Волчиха. Была у Ксенофона Матвеевича любимая женщина. Звали её Таня Куданова. Жила она недалеко – на второй улице за усадьбой Кулешовых. Было ей около сорока. Красивая, спокойная женщина. Доход её состоял из приёма мужчин. Ксенофон в ней души не чаял, закрыв глаза на профессиональную деятельность любимой. У Ксенофона Матвеевича было два сына: старший Наум, а младший Константин. Оба женаты. Оба не обойдены умом, удалью и внешностью. Константину тоже приглянулась Таня. К ней он похаживал втихаря. Вечерний уход из дома объяснялся легко – пошёл играть в «очко». В то время игра в «очко» была очень модной, играли на деньги.