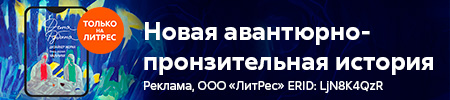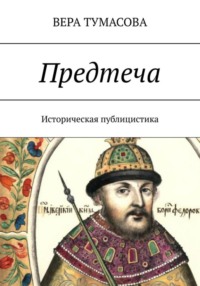
Предтеча
“В период царствования Фёдора Иоанновича и Бориса Годунова чётко проявились две тенденции, лишь обозначившиеся ранее. Во-первых, большое число свободных людей стремилось в добровольную кабалу, считая её благом по сравнению с жизнью свободного тяглового крестьянина. Во-вторых, землевладельцы буквально охотились за людьми, толпами, бродившими по стране после разорения в правление Ивана Грозного1”. [10] В указе об урочных летах можно прочесть: "Которые крестьяне из поместий и отчин выбежали до нынешнего года за пять лет, на тех суд давать и сыскивать накрепко, и по суду этих беглых крестьян с женами, детьми и со всем имением отвозить назад, где они жили; а которые крестьяне выбежали до этого указа лет за пять, за семь, за десять и больше, а помещики или отчинники на них в побеге не били челом, на таких суда не давать". (https://vk.com/wall-36364492_16460?ysclid=lto9sg476j643862772) Большинство историков именно Годунова считают виновником закрепления крестьян и, что разрешённый крестьянам переход от одного хозяина к другому в Юрьев день был отменен при Фёдоре Иоанновиче, хотя это право подтверждалось ещё в Судебнике24, созданном при его отце. Проблемы возникли благодаря правлению Ивана Грозного, загнавшего страну в чрезвычайные обстоятельства Ливонской войны25 и сопутствовавшие этому кризис и разорение. Начало движения к крепостничеству Козляков26 датирует с осени 1581 года, когда впервые был запрещен вывоз крестьян до нового указа. Отменялась статья действовавшего Судебника 1550 года, регламентировавшего крестьянский выход в Юрьев день, порядок уплаты налогов и отработки барщины. Запрет («заповедь») и, соответственно, «заповедные лета» удержались, по крайней мере, на пять лет до 1587 года. Возможно, он продолжал действовать всё это время после указа Ивана Грозного. Поговорка “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!“ сложилась и получила общее распространение лет через семьдесят пять после смерти Годунова.
Ключевский сделал вывод, что: «…крестьянское право выхода к концу XVI в. замирало само собой, без всякой законодательной его отмены. Им продолжали пользоваться лишь немногие крестьяне». [23] Козляков пишет, что в условиях начинавшегося голода (ru.wikipedia.org›Великий голод (1601—1603)). Массовый голод, охвативший большую часть европейской территории Русского царства в смутное время при Борисе Годунове и продолжавшийся с 1601 по 1603 годы) царь Борис Годунов вынужден был изменить правила крестьянского выхода своими знаменитыми указами 1601–1602 годов. Указ от 28 ноября (8 декабря) 1601 царя Бориса облегчал, а не ухудшал положение крестьян. Он разрешал их выход от тех помещиков, которым было трудно их кормить: «В нынешнем во 110-м году великий государь царь и великий князь Борис Фёдоровичь всеа Русии и сын его великий государь царевичь Фёдор Борисовичь всеа Русии пожаловали, во всем своем Московском государстве от налог и от продаж велели крестьяном давати выход. А отказывати и возити крестьян дворяном, которые служат из выбору, и жилцом, и детем боярским дворовым и городовым, приказщиком всех же городов». [18] Для иноземцев и мелких служилых людей дворцового и царицына чина были сделаны послабления. Царь Борис Годунов хотел помочь этим людям и зависевшим от них крестьян. Был установлен один срок выхода для крестьян: две недели до Юрьева дня 26 ноября (9 декабря) и две недели после, чтобы не допустить переход крестьян в то время, когда они ещё не сняли урожай. “За свой уход крестьянин выплачивал «пожилое», и его сумма была фиксированной: «за двор по рублю да по два алтына», что примерно составляло цену одной четверти ржи по ее рыночной стоимости на момент издания указа”. [18] Козляков отмечает, что в голодные годы многие мелкие землевладельцы не могли или не хотели помогать своим крестьянам, но не отпускали их, чтобы не лишиться в будущем рабочих рук, а более богатые землевладельцы, не принимали их в опасении „истощить себя“ [18] У Козлякова можно прочесть, что на основании указа прежние господа могли вернуть беглых по суду. Царь Борис Фёдорович запретил своз крестьян в дворцовые сёла, чёрные волости, земли Патриарха, Архиепископов и монастырей. Указ не распространялся на членов Государева двора – бояр, окольничих, стольников, стряпчих, московских дворян и дьяков. Кроме того, Годунов вовсе закрыл для переходов крестьян Московский уезд, где в основном и располагались земли столичного дворянства: «А в Московском уезде всем людем промеж себя, да из ыных городов в Московской уезд по тому ж крестьян не отказывати и не возити». [18] Год спустя, 24 ноября (7 декабря) 1602 года указ был дополнен угрозой наказания тем, кто отказывался отпускать крестьян: «А из-за которых людей учнут крестьян отказывати, и те люди крестьян из-за себя выпускали со всеми их животы безо всякие зацепки, и во крестьянской бы возке промеж всех людей боев и грабежей не было, и силно бы дети боярские крестьян за собою не держали, и продаж им никоторых не делали. А кто учнет крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от нас быть в великой опале». [18] Но жизнь всё равно устроила по-своему. Крестьянский выход перессорил дворян и детей боярских. Но, для того, чтобы переходы не разоряли до конца служилых землевладельцев и своз крестьян не превращался в промысел, на основании указа 1601 года (о временном восстановлении права крестьян на выход в Юрьев день. http://poznaemvmeste.ru/index.php/105-istoriya-ege-teoriya/1002-ege-istoriya-kratko-boris-godunov) мелким землевладельцам разрешался своз только одного-двух крестьян одновременно: «одному человеку из-за одного человека».
Указами 1601–1602 годов в условиях начавшегося голода царь Борис Годунов изменил правила крестьянского выхода, суть которых заключалась в следующем. В голодные годы многие землевладельцы, особенно мелкие не имели возможности, а чаще не желали помогать своим крестьянам, но в то же время не давали им отпускных, чтобы не лишиться в будущем рабочих рук. Другие же землевладельцы, у которых были средства прокормить голодающих беглых, не принимали их к себе, опасаясь понапрасну „истощить себя“, как выражалось в указе, так как позже прежние господа могли вернуть к себе судом этих беглых. Указ царя Бориса облегчал, а не ухудшал положение крестьян. Борис Годунов предвидел, чем могут обернуться его меры. Рядом с мелкими поместьями могли располагаться целые боярские латифундии, приказчики которых всегда благосклонно относились к приходившим крестьянам, справедливо видя в них источник дохода не только для хозяина, но и для себя. Небогатый служилый порой не мог доказать, что его крестьянин убежал в вотчину царёва боярина. Известно, что московские дьяки не принимали таких челобитных, дабы не ссориться с боярами, и требовали бить челом «мимо них», прямо государю. Если бы Борис Годунов «дал право вывозить и принимать крестьян Патриарху, властям, монастырям и высшим служилым чинам, то эти более сильные экономически землевладельцы легко подавили бы служилую мелкоту, которые были не в состоянии прокормить своих крестьян, и лишили бы её рабочих рук». [18] Указ не распространялся на членов Государева двора – бояр, окольничих, стольников, стряпчих, московских дворян и дьяков. Кроме того, Годунов запретил переходы крестьян Московского уезда, где в основном и располагались земли столичного дворянства: «А в Московском уезде всем людем промеж себя, да из ыных городов в Московской уезд по тому ж крестьян не отказывати и не возити». (vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XIV/1320-1340/Feod_der…)
Указ повторили год спустя, 24 ноября (4 декабря) 1602 года. Он был дополнен угрозой наказания тем, кто отказывался отпускать крестьян: «А из-за которых людей учнут крестьян отказывати, и те б люди крестьян из-за себя выпускали со всеми их животы безо всякой зацепки, и во крестьянской бы возке промеж всех людей боев и грабежей не было, и силно бы дети боярские крестьян за собою не держали, и продаж им никоторых не делали. А кто учнет крестьян грабити и из-за себя не выпускати, и тем от нас быть в великой опале». (vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XIV/1320-1340/Feod_der…)
Как всегда поэтичен вывод Ключевского16: “Но умер царь Фёдор, воцарился Борис, и наступили страшные голодные годы. Господа осмотрелись, и, увидав, что не могут прокормить многочисленной челяди, одних отпускали на волю, других прогоняли без отпускных, третьи разбегались сами, и все это живое богатство, так грешно нажитое, рассыпалось и пошло прахом, а в смуту многие брошенные холопы зло отплатили своим господам”. [26]
Казарезов27 прокомментировал следующий указ от 24 ноября (7 декабря) 1602 г., который подтвердил положения предыдущего и установил правило, по которому «вывоз» крестьян мог производиться только с согласия их предшествующего хозяина. Кроме того, в указе имелось важное положение, предусматривавшее обязательность сохранения крестьянином при смене хозяина статуса тяглового, податного человека. Хотя понятно, что подобное положение имело скорее рекомендательный, чем законодательный характер, так как трудно было его проконтролировать.
Поначалу «крепостной порядок» был выгоден и владельцам, и самим крестьянам. Царю Борису Годунову из-за начавшейся смуты пришлось отказаться от введенных чрезвычайных мер («и велел заповедати, что впредь выходом не быти, отказать» [18]), но он опоздал. Многие крестьяне и холопы уже не надеялись на то, чтобы найти нового владельца в голодное время. Годунов вместе с сыном – царевичем Фёдором Борисовичем28 и Боярской думой издали приговор «о холопех» 16 (26) августа 1603 года (все бездомные холопы, прогнанные господами без отпускных, могли явиться в Москву в приказ Холопьего суда и получить там отпускные.https://infourok.ru/statya-vosstanie-hlopka-polozhenie-na-okrainnyh-zemlyah-informacionnye-materialy-i-metodicheskie-ukazaniya-k-uroku-5719061.html) в интересах, отпущенных на волю, но не получивших отпускных документов холопов. В нём в первую очередь была выказана забота о голодающих: «Которые бояре, и дворяне, и приказные люди, и дети боярские, и гости, и всякие служилые, и торговые, и всякие люди холопей своих ссылали з двора, а отпускных им не дали, и крепостей им не выдавали, а велят им кормитца собою, и те их холопи помирают голодом, а иные многие питаютца государевою царёвою и великого князя Бориса Фёдоровича всеа Русии милостиною, а за тем их не примет нихто, что у них отпускных нет». (Указ от 28 ноября 1601 г. о крестьянском выходе Лета…history1-35.ucoz.ru›_fr/11/__28__1601_-__.docx)
Указ предписывал «бояром, и дворяном, и всяким людем» обязательно выдать им «отпускные» и «крепости» и больше их не держать за собою, в надежде вернуть, как только минется голодное время. Если такие, фактически отпущенные на волю («кормиться собою», холопы являлись в Приказ Холопьего суда, то там они могли получить необходимые документы, чтобы уже с ними искать, куда дальше поступить на службу. Важным следствием начавшихся переходов и отпуска на волю крестьян и холопов оказалось то, что большая масса людей занялась попрошайничеством и бродяжничеством. Самые отчаянные полностью отказывались от своих семей и уходили «казаковать» или разбойничать. “Нет худа без добра” (https://ru.wiktionary.org/wiki/) земли было много, рук мало. Крестьяне расползались по свободным землям на: север, юг, в степи, на северо-восток, за Уральские горы, в бесконечную Сибирь. Многие из них оставались свободными.
Борис Годунов не мог и предположить, куда выведут введённые им правила заповедных, или урочных, лет и указы о частичном запрещении крестьянского выхода. Он заставил им следовать всех – от первого боярина до последнего крестьянина. Повседневная действительность в итоге скорректировала жизненный уклад.
По Карамзину более последовательными «крепостниками» на деле оказывались не столько крупные, сколько мелкие землевладельцы, постоянно бившие челом о продлении «урочных лет». Часто провинциальный «сынчишка боярский» имел всего две-три крестьянские «души». Или помещик оказывался без поместья или обходился в своем хозяйстве без крестьян. Боярам и московским дворянам, обладавшими более населёнными, экономически развитыми и устойчивыми вотчинами и поместьями, нужны были крестьянские переходы в Юрьев день, чтобы переманить работников крупными ссудами и другими преимуществами. Они-то и добились окончательного утверждения крепостного порядка в Соборном уложении 1649 года29.
В конечном итоге почти все историки сошлись на мнении, что окончательное юридическое закрепление крестьян произошло при царствовании Романовых30.
Боханов31 считает, что прикрепление крестьян к земле и к землевладельцу вводилось постепенно, как прецедентное право. Оно началось до Бориса Годунова и продолжилось после него. Не было никакой торговли крестьянами, то есть полной потери личного крестьянского суверенитета, ни при Иоанне Грозном, ни при Фёдоре Иоанновиче, ни при Борисе Годунове. Земледельцев прикрепляли к земле, чтобы упорядочить сбор податей для гарантирования жизнедеятельности вотчин и обеспечить хозяйственное развитие огромных пустынных территорий на Юге и на Востоке страны.
1.3. Быт Средневековой Руси
У кого, как не у Забелина3 можно узнать не только о быте Средневековой Руси, но и об устройстве помещений народа, включая царские хоромы. Древнее русское жилище простолюдина поначалу предсавляла собой клеть, со временем преобразовавшуюся в избу, постепенно претерпевшую довольно значительные изменения, сохранив некоторые функции. Изба и клеть составляли основу двора. Позёмная и чёрная (курная) изба рубилась прямо на земле или на “подзавалье”, с волоковыми окнами, располагавшиеся под потолком и походившие скорее на щели, служившие вентиляцией, куда уходил дым. Волоковые потому, что их задвигали (заволакивали), особой “закрышкой” или доской. Позднее в белых избах появились “дымницы” (узкие деревянные трубы). Против избы у более зажиточных людей строился летний холодный покой, тоже с волоковыми окнами (клеть). Под общей крышей, между клетью и избой, находились сени. Под клетью (“повалушей”) находился глухой подклет (“мшаник”) для скота или кладовой. Клеть всегда располагалась выше избы, и потому назвалась горницей.
У богатых, дворян и бояр постройки и расположение помещений изменялись, но сохранялся тип избы (белой, позёмной), иногда построенной на подклете горницей с красивыми (красными) большими окнами с колодами и оконницами (рамами), в отличие от малых, волоковых, и клети простого человека.
Строили в боковых и задних стенах горницы и малые волоковые избы. Если в горнице ставились изразцовые, муравленые круглые или четырёхугольные печи на манер голландских, то в избе были русские печи. Жилые помещения могди разделяться перегородками (заборками) на несколько комнат.
В подклетах располагались, часто без окон и дверей, со входом из верхнего этажа, людские, иногда с печью, кладовые или казёнки для хранинения имущества.
В больших домах просторные сени соединяли горницу и нежилые комнаты, которые строились отдельно от жилых, на жилом или глухом подклете, в два или в три яруса. Это был аналог клети в крестьянском дворе – летний холодный покой, служивший, в основном, столовой или приёмной. Повалуша могла служить и для хранения домашней утвари. В государевых хоромах она служила парадной столовой и залом для пиров и праздников. Повалуша всегда ставилась отдельно от жилых комнат, напротив передней комнаты и не сообщалась с задними клетями.
Светлица в отличие от горницы, была на женской половине больше по размерам, только с красными окнами в трёх или четырёх стенах и служила рабочими комнатами для рукоделий – вышивания шелками, золотом, белым шитьём, а также для всяких занятий разного рода. Сенник (холодный покой, без печи) с немногими волоковыми окнами, служил летней спальней, и отличался отсутствием слоя земли на дощатом или бревенчатом потолке. В нём так же устраивалась брачная постель. Сенником (“сенницей”) называли сарай для сена, сеновал. В древности сенями называли все постройки перед входом в жилые и нежилые покои, которые соединяли горницы, повалуши, клети, светлицы. В богатых и государевых хоромах на женской половине обширные сени использовались, как гостинные и места для девичьих веселий и игр. Сени с лестницей со двора, без общей кровли, называли переходами или крыльцом. В горницах, повалушах и в сенях размещали чуланы, которые использовались как спальни в горницах, а в сенях – как кладовые. Над сенями иногда устраивалась светёлка с “подсеньем” внизу. Светлые чердаки (терема) в виде башенок с красными, часто двойными окнами со всех четырёх сторон, служили “смотрильнями” для осмотра окрестности. Около теремов часто устраивали “гульбища”, в виде парапетов или балконов с перилами или решетками.
Государевы хоромы имели, в основном три этажа: подклеты, в среднем житье – горницы, повалуши, светлицы, а на верху – чердаки, терема, вышки.
Женская половина с детьми и родственниками, стояла отдельно от жилых государевых хором.
”Непокоевые” хоромы для торжественных собраний – духовных и земских соборов, приёмов послов, праздничных и свадебных приёмов были больше и строились и стояли впереди жилых помещений.
Хозяйственные дворовые постройки с различными службами размещались в особых дворах.
В своём мемуарном памфлете князь Михаил Михайлович Щербатов (1733 – 1790, Рюрикович (37-е колено от Рюрика), историк, публицист, философ, генерал-майор, сенатор, действительный тайный советник) довольно подробно изложил быт средневековой России, имевшем место вплоть до правления Петра I4. Государи жили довольно просто, их не большие дворцы состояли из семи или восьми комнат, реже – из десяти. Крестовая – она же аудиенц-камера, в которой ожидали государя бояре и другие сановники, небольшая столовая, поскольку лишь немногие бояр удостаивалось чести обедать с государем, кроме великолепных торжеств, проходящих в Грановитой палате. Спальня была общей с царицей. За ней – покои для царицыных девушек, чаще – одна, а малолетних царских детей размещали по два и по три в одной комнате. Взрослые дети жили в особых трех комнатах: крестовой, спальни и заспальной. Дворцы довольно долго не имели больших украшений, стен и сводов с росписью, в виде святых или цветов и с резьбой вокруг дверей. Из мебели стояли несколько ореховых стульев или кресел для царя и царицы, обитых сукном и скамьи, покрытые кармазинным сукном. Спали без занавесок вокруг. Лишь позднее в царском доме появилась крестовая палата близ красного крыльца с золотой кожей.
Обедали, кроме торжественных случаев, не на серебре. Еда была такой же простой, хотя блюда были многочисленны: всякое мясо, птица, дичь, соленые огурцы и сливы, множество пирожного, а холодец с солеными лимонами был роскошью. Когда ещё не могли привозить из дальних мест дорогую живую рыбу, рыбных блюд было немного, ели местную рыбу из ближних рек и прудов. Привозную рыбу употребляли соленую. На десерт ели: изюм, коринку, винные ягоды, чернослив и медовые постилы, а летом и осенью – свежие яблоки, груши, горох, бобы и огурцы. Дыни и арбузы привозили из Астрахани. Привозили также виноград в патоке. Пили: квас, кислые щи, пиво и мёды, из простого вина – водку. Вина пили церковное (красное ординарное вино), ренское (рейнвейн, всякое белое ординарное вино, романея – греческие сладкие вина) и аликант. Фряжские вина получали из Франции и пили помалу. Открытый стол был только для ближайших родственников и на званых обедах и ужинах.
Освещали покои, в основном, четырьмя сальными свечами в подсвечниках, а использование восковых свечей почиталось за грех.
Государи и все бояре летом ездили всегда верхом, а зимой – в открытых санях, но в случае болезни сани употребляли и летом. Верховая упряжь была поистине великолепна и служила многим поколениям: седла, мундштуки, запоны, попоны бархатные или аксаметные золотые, с шитьем или с драгоценными камнями; золотые или с каменьями стремена; шитые золотом, или серебром, или низаные жемчугом бархатные подушки.
Знатные ездили зимою в санях, летом в колымагах. Царицы в колымагах, обитых кожей, снаружи местами позолоченную и тисненную с опускающейся кожей на окошках и двери. Кареты узнали чуть ли не в царствование Петра Великого.
За Царицею (когда она выезжала на богомолье или гулять) верхом, в белых поярковых шляпах, обшитых тафтою телесного цвета, с лентами, золотыми пуговицами и длинными, до плеч висящими кистями.
Карамзин20 довольно подробно описал женскую одежду: ”Женщины, как у древних Греков или у восточных народов, имели особенные комнаты и не скрывались только от ближних родственников или друзей. Дома они носили на голове шапочку тафтяную, обыкновенно красную, с шелковым белым повойником или шлыком; сверху для наряда большую парчовую шапку, унизанную жемчугом (а незамужняя или еще бездетная – черную лисью); золотые серьги с изумрудами и яхонтами, ожерелье жемчужное, длинную и широкую одежду из тонкого красного сукна с висящими рукавами, застегнутыми дюжиною золотых пуговиц, и с отложным до половины спины воротником собольим; под сею верхнею одеждою другую, шелковою, называемою летником, с руками, надетыми и до локтя обшитыми парчою; под летником ферезь, застегнутую до земли; на руках запястье, пальца в два шириною, из каменьев драгоценных; сапожки сафьянные, желтые, голубые, вышитые жемчугом, на высоких каблуках: все, молодые и старые, белились, румянились и считали за стыд не расписывать лиц своих”. [14]
Щербатов также отметил великолепие царской одежды. В торжественных случаях она отличалась золотыми украшениями, богатыми жемчугом и драгоценными камнями, переходившими из рода в род, но в обыденной жизни одежда отличалась простотой. Царь или царица могли иметь до десяти платьев и носили до износа. Главной роскошью царской одежды были драгоценные меха, получаемые с данью от сибирских народов, часто использовавшиеся в качестве подкладки, и на опушку.
Бояре и прочие чиновники жили также, но скромнее из почтения к царскому сану. О моде в старину понятия не имели, ибо часто носили одежду своих дедов. Однако, главное великолепие, доведенное до излишества, бояр состояло в большом числе служителей, даже в поездке по городу в шествии могло быть до тридцати слуг. Содержание слуг стоило недорого – их кормили, давали небольшое жалованье на сапоги, а дома и при выезде при сопровождении господ носили серые сермяжные кафтаны из своих запасов. После появления ливрей лакеи без званых гостей во всех домах ливреи не надевали.
Весь быт, правила поведения и нравственный кодекс в древности полностью были построены по книге “Домострой”5. Следует отметить, что со времён оно мы до сих пор вольно или невольно ощущаем влияние Домостроя, порой не подозревая о том, что уклад нашей жизни был заложен в глубокой древности. Как знать, может быть эта книга, помимо религии в чистом виде, и была скрепой русского общества чуть менее пятисот лет. Очень многое переменилось за эти столетия, но тем и сильна Россия, что основы общества остались незыблемы. Конечно, можно вспомнить о “варварстве” древних русских, но что касается чистоты, в том числе тела и духа, то здесь Запад и рядом не стоял. Теплолюбивые иностранцы, не отличающиеся в средневековье особой чистоплотностью в быту, очень негативно относились к привычкам русских, но, прямо из окна выливали содержимое ночного горшка на улицу, правда, предупреждая: “Аква!”, предпочитали умываться в тазике в собственной грязи, славились немытым, воняющим телом, а баню вообще считали чистейшим варварством. Их возмущала привычка русских мыться вместе бабам и мужикам, а потом купаться в холодной речке, даже зимой.
Интересны особенные предписания, красочно написанные великолепным языком, актуальные и для нашего времени и касающиеся правил хорошего тона, например, “… св. крест, образа, мощи целовать перекрестясь, дух в себе удержав, губ не разевая; зубами просвиры не кусать, как обыкновенный хлеб, но ломать маленькими кусочками и класть в рот, есть губами и ртом не чавкать. Если с кем хочешь сотворить целование о Христе, также должен дух в себе удержать и губами не плюскать. … Порассуди человеческую немощь: нечувственного духа гнушаемся-чесночного, хмельного, больного и всякого смрада: коль мерзки пред господом наш смрад и обоняние". [5]
Домостроем предписывалось мыть избу, стены, лавки, скамьи, пол, окна, двери. Что бы не тащить грязь в дом, рекомендовалось положить сено для обтирания ног у нижнего крыльца, а перед дверями – рогожку или войлок. Иконы “должно ставить на стенах, устроив благолепно, со всяким украшением, светильниками и завесою”. [5]
Начинается книга с поучения отца сыну. Много внимания уделено нравственным ценностям и состраданию, отношениям в семье и некоторым правилам общежития. В старину жёны мужьям во всем покорялись, замужняя женщина ходила в церковь по совету с мужем. “Вставши и помолившись, хозяйка должна указать служанкам дневную работу”. [5] Еду она должна сама уметь готовить и рукодельничать, чтобы могла и служанку научить, и тогда “…все будет споро и всего будет много”. [5] Сама хозяйка никогда не должна бездельничать, не слуги должны будить хозяйку, а “… хозяйка должна будить слуг”. [5] Домострой велел каждый день жене с мужем советоваться обо всём, знаться только с тем, с кем он велит. С добрыми женщинами “…пригоже сходиться; не для еды, не для питья, а для доброй беседы и науки, внимать себе на пользу, а не пересмехать и никого не переговаривать; спросят о чем про кого другие, отвечать: не знаю, ничего не слыхала и сама о ненадобном не спрашиваю, о княгинях, боярынях и соседях не пересужаю”. [5] Женщина должна беречься от пьяного питья, не должна “…тайком от мужа ни есть, ни пить … “ [5]