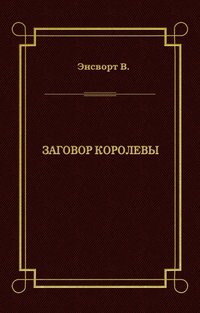
Заговор королевы
– И как за своего соотечественника, я буду стоять за него против всех и каждого.
– Браво, мой храбрый дон Диего Каравайя! – сказал студент Сорбонны, хлопая по плечу испанца и шепча ему на ухо: – Неужели все будут уступать этим негодным шотландцам? Ручаюсь, что нет. Мы будем действовать сообща против всей этой нищенской нации, а покуда эту частную ссору поручаем тебе. Постарайся справиться с ней, как должно одному из потомков Сида[28].
– Смотри на него, как на мертвого, – отвечал испанец.
– Клянусь Пелажем, жаль, что тот, другой, не стоит у него за спиной, чтобы одним ударом проколоть обоих!
– Возвратимся к предмету вашей ссоры, – возразил студент Сорбонны.
Довольный предстоящим поединком, он старался предупредить всякую возможность к примирению, пока еще можно было подливать масло в огонь.
– Возвратимся к вашей ссоре, – повторил он громким голосом, глядя на Огильви. – Надо согласиться, что как гуляка этот Кричтон не имеет себе равных. Никто из нас не подумает состязаться с ним в деле кутежа, хотя многие могут похвастаться, что умеют выпить. Брат Жан со жрицей Бахуса в придачу был жалкий пьянчужка по сравнению с ним.
– Он поклоняется не жрице Бахуса, а другим богиням, если не ошибаюсь, – добавил студент Монтегю, поняв, куда метит его товарищ.
– Потому-то мы и дали такой ответ на его вызов, – отвечал студент Сорбонны. – Вероятно, вы помните, что под его дерзким вызовом нашему ученому сословию, который он выставил в стенах университета, было написано, что тот, кто хочет видеть это чудо учености, может искать его или в кабаке, или в веселых домах. Так ли это, идальго?
– Я сам видел его в кабаке «Сокол» и в веселых домах. Вы меня понимаете?
– Ха-ха-ха, – засмеялись студенты. – Видно, твой Кричтон далеко не стоик, а последователь Эпикура[29], этот господин шотландец, ха-ха-ха!
– Поговаривают, что он знаком с дьяволом, – заметил с таинственным видом студент из Гаркура, – и что подобно Жанне д’Арк он продал за временные блага свою душу. Оттого-то он так изумительно учен, так необыкновенно красив и ловок, так обольстителен с женщинами, так постоянно счастлив в игре в кости. Потому же он и неуязвим в битвах.
– Поговаривают, что он не имеет приближенного духа, который везде за ним следует под видом черной собаки, – добавил студент Монтегю.
– Или под видом карлика, как черный бесенок Козимо Руджиери, – сказал студент из Гаркура. – Правда это? – спросил он, обращаясь к шотландцу.
– Кто это говорит, тот наглый лжец! – воскликнул вспыльчивый Огильви. – Я вызываю вас всех вместе и каждого порознь, и ни один собрат из коллегии, к которой я принадлежу, не откажется поддержать мои слова.
Громкий насмешливый хохот раздался в ответ на выходку Огильви. Пристыженный тем, что своей бесполезной и глупой вспыльчивостью навлек на себя справедливые насмешки, он замолчал и старался не обращать внимания на поддразнивания.
Джелозо
Бросая гневные взгляды на своих мучителей, Огильви нечаянно встретился с черными огненными глазами молодого человека, стоявшего в некотором от него отдалении, но слышавшего их спор. Казалось, он живо интересовался предметом ссоры и, видимо, глубоко сочувствовал Огильви. В его лице было что-то такое, что сразу привлекло внимание Огильви, несмотря на возбуждение, в котором он находился. Некоторое время он не мог отвести глаз от этого юноши, а когда перестал смотреть, то только для того, чтобы подумать о его необыкновенной красоте.
И действительно, этот юноша заслуживал внимания. Черты его лица своей нежностью и совершенством представляли резкий контраст с грубыми и пошлыми физиономиями, окружавшими его. При безукоризненной правильности лица он напоминал Гебу[30] своим изящно очерченным подбородком, точно так же как и своими не покрытыми еще пушком возмужалости устами, выражавшими любезную приветливость и пылкую страстность. Но теперь уста эти были сжаты, а гордые и тонкие ноздри расширились от гнева.
По наружности этому юноше можно было дать не более шестнадцати лет, а гибкость его тонких, почти женственных, хотя и вполне соразмерных рук доказывала его раннюю молодость; лишь огненные глаза, светившиеся умом, выражали решимость и отчаянное не по годам мужество. Пряди волос, черных как смоль, оттеняли его лицо, оливковый цвет которого выдавал в нем уроженца юга. Одежда его, не имевшая, впрочем, в себе ничего необыкновенного, не походила ни на костюм студента университета, ни на костюмы, бывшие в употреблении у добрых граждан Парижа. Маленькая шапочка из черного генуэзского бархата была надета набок, плащ из той же материи, но более широкого покроя, чем это было модно, застегивался золотой цепочкой и был драпирован с намерением по возможности скрыть стройность стана и придать больше мужественности узким плечам.
– Я возбудил ваше любопытство, молодой человек, – сказал Огильви, видя, что тот не сводит с него глаз, и делая несколько шагов, чтобы приблизиться к нему. – Могу ли вас спросить, к какой академии вы принадлежите?
– Я не принадлежу ни к одной из ваших школ, – отвечал юноша, отодвигаясь при приближении шотландца. – Я иностранец, привлеченный желанием узнать исход диспута, которым интересуется весь Париж, затесавшийся необдуманно в толпу, из которой я охотно бы вышел, если бы только была возможность, и вынужденный теперь ожидать конца, который, как я надеюсь, – добавил он нерешительно и слегка краснея, – будет торжеством вашего несравненного соотечественника. Признаюсь, я не менее вас надеюсь на его успех.
В голосе незнакомца слышалась гармония, чудно отзывавшаяся в сердце Огильви.
«Я бы поклялся спасением своей души, – подумал он, – если бы эти слова не были произнесены этим мальчиком, что я слышу голос моей миленькой, говорящей со мной Марион, как она обыкновенно делала это в те летние, давно минувшие ночи и в стране, очень далекой отсюда; и если бы эти глаза не были так велики и так черны, я бы поклялся, что это ее взгляд. Клянусь святым Андреем, сходство удивительное! Мне хотелось бы узнать, не земляк ли он мне и ради чего он так горячо высказывается за Кричтона».
– Эй, молодой человек, – продолжал он вслух, – не шотландец ли вы, паче чаяния?
В ответ на этот вопрос юноша с трудом скрыл улыбку, но отрицательно покачал головой. Улыбка, приоткрывшая его губы, продемонстрировала ряд блестящих как жемчуг зубов.
«Рот совершенно такой же, как у Марион», – подумал Огильви.
– Из Шотландии! – вскричал рядом с ним студент Сорбонны. – Разве может быть что-то хорошее в этой проклятой стране? Я очень хорошо знаю этого молодого человека из Венеции, это один из джелозо, член Итальянской труппы, которая получила разрешение от короля на представление своих комедий в Бурбонском отеле. Мне показались знакомыми лицо и манеры, голос же совершенно убедил меня. Он поет арии в комедиях и, честное слово, очень недурно. Дамы от него без ума. А! Мне пришла идея: у нас еще есть впереди пара минут, отчего бы не скоротать их, слушая песенку! Что вы на это скажете, приятель? Неужели мы упустим этот случай? Песню! Песню!
– Браво! Браво! – завопили студенты, хлопая в ладоши. – Ничего не может быть лучше! Песню! Мы требуем песню!
Все мигом окружили молодого венецианца. Между тем Огильви, столько же возмущенный оборотом этого дела, как и обидой, которая, по его мнению, была нанесена иностранцу, так как относительно благопристойности театральных представлений он разделял предрассудки своего отечества и к профессии актера питал презрение, доходившее почти до отвращения, обратился к молодому человеку.
– Неужели это не клевета! – вскричал он. – Скажи, что он лжет, скажи, что ты не актер, не наемный шут, и, клянусь памятью праведного Джона Кокса, он получит пощечину за свою гнусную ложь!
– Молчать! – закричал студент из Монтегю. Долой дерзкого шотландца, если он вздумает еще прерывать нас!
– Дайте ему ответить, и я замолчу, – решительно возразил Огильви. – Еще раз, иностранец, ошибся я на твой счет?
– Вы ошибаетесь, если принимаете меня за кого-либо другого, – отвечал молодой человек, подняв голову. Я из Венеции, я один из джелозо.
– Вы слышали? – воскликнул студент из Сорбонны. – Он не отпирается. Теперь, не откладывая более, спой нам песню.
– Я не отрекаюсь от моего звания, – возразил венецианец, – но я не буду петь по вашему приказанию.
– Ну, мы это еще увидим, – отвечал студент из Сорбонны. – На наших дворах есть насосы, вода которых обладает свойством вдохновлять, подобно водам Геликона[31]. Она одарена чудесной силой.
– Черт возьми! Стащим туда нашего упрямца! – закричал Каравайя. – Клянусь вам, к нему возвратится голос, если он не захочет получить простуду под холодным фонтаном.
Говоря это, он грубо опустил руку на плечо молодого венецианца. Последний поспешно отступил, быстрее мысли выхватил он из-под плаща стилет и приставил его к горлу Каравайя. Его черные глаза метали молнии.
– Убери свою руку! – воскликнул он. – Не то, клянусь святым Марком, я убью тебя!
При виде гнева венецианца Каравайя нашел более благоразумным отступить, что он и сделал с жестом, выражавшим сожаление, и с обыкновенным своим хвастливым восклицанием.
– Брависсимо! – громко раздалось между студентами. – Великолепная сцена, она произвела бы большой эффект в Бурбонском театре.
– Клянусь Богом, – засмеялся от души англичанин. – На долю испанца выпала плохая роль!
– Прошу вас, сеньоры, – сказал им не обращавший внимания на их насмешки джелозо, снимая шляпу, которая скрывала его густые, черные кудри, – пропустите меня без дальнейших неприятностей. Я не могу исполнить ваше желание и не понимаю, какое право имеете вы требовать от меня песни. Хотя я и актер, но у меня есть друзья, и если…
– Смотрите-ка, он нам угрожает! – закричал студент из Сорбонны. – Но мы не так легко отказываемся от наших желаний. Спойте нам песню, сеньор джелозо, а потом, если пожелаете, можете катиться на все четыре стороны!
– Никогда! – отвечал венецианец. – И советую вам не доводить меня до крайности.
– Если никто не хочет заступиться за этого молодого человека, – сказал тогда англичанин, – то я заступлюсь. Я не интересуюсь, кто он, джелозо или диаболозо. Если все против него, то я за него. Сильные всегда были на стороне слабых. Ну! Господин шотландец, эта ссора отчасти и тебя касается. Вынимай шпагу, приятель, и защити этого бедного юношу, а то у него такой вид, будто он никогда не видал шпажного удара.
Раздавшийся звон серебряных бубенчиков очень кстати прервал эту ссору. Удивительный человек маленького роста, производивший эти звуки, старался пробраться в толпу. На нем был необыкновенный костюм, сшитый из тканей разных цветов: белого, красного и голубого, причем такого странного фасона и до того испещренный горизонтальными и вертикальными полосами, что производил самое фантастическое впечатление. Его жакет преуморительно оттопыривался на боках, обнаруживая худобу его коротких, очень некрасивых ног, одетых в чулки амарантового цвета. На плечи был накинут кафтан с огромными рукавами. На спине этого кафтана и на рукавах был вышит золотой государственный герб. Вокруг шеи была надета цепь из медальонов с резными девизами, посвященными глупости. Это был подарок его милейшего Анрио, как он по-братски называл своего царственного друга, а его высокая коническая шляпа, заменившая древний рыцарский шлем, имела три острых угла, наподобие треуголки, которую носила вся дворцовая прислуга. В руках держал он знак своей должности – погремушку, толстую ореховую палку, украшенную серебряной головой дурака отличной чеканки. Огромный карман, наполненный конфетами, которые он чрезмерно любил, висел у пояса вместе с большой деревянной шпагой.
Этим странным существом был Шико, шут короля.
– С вашего позволения, господа! – кричал он, проталкиваясь вперед и нанося удары своей погремушкой тем, кто загораживал ему дорогу. – Зачем вы меня останавливаете? Безумие было всегда в ходу в Парижском университете. Тем более что здесь требуется вся моя мудрость! Они собирались купать человека в холодной воде, чтобы тот заговорил! Этот поступок достоин величайшего шута Франции. Я бы лишился своего звания, если бы не присутствовал при этом. Говорю вам, будьте внимательны! Дайте место аббату глупцов, хотя он и не восседает на осле, как в праздник убиения младенцев.
И, остановившись прямо против джелозо, которому отдал самый дружеский поклон, Шико вытащил свою деревянную шпагу и с ужимками и гримасами принялся потрясать ею перед студентами.
– Этот молодой человек, мой молочный брат, – начал он, – полностью прав, отказывая вам. – Раздался громкий смех. – Он приглашен на сегодняшний вечерний спектакль и раньше этого не должен выставлять себя напоказ. Наш брат Генрих не желает, чтобы он расточал свои услуги. Если вам требуется музыка, пойдемте к дверям Лувра; оркестр швейцарской гвардии славится быстротой и живостью такта.
– Не раздражайте их, мой добрый сеньор, – прошептал джелозо. – Лучше я соглашусь исполнить их желание, как оно ни безрассудно, чем подвергать своим отказом чужую жизнь опасности. Сеньоры, – продолжал он, обращаясь к докучавшим ему студентам, – я исполню ваше желание, но с условием, что смогу тотчас же удалиться по окончании песни.
– Принимаем! – закричали студенты, махая шляпами.
В одну минуту шум утих. Плотный круг образовался около венецианца, когда он запел самым мелодичным голосом, хотя и с оттенком насмешки, мадригал в честь Кричтона, прекрасного шотландца.
– Довольно! – воскликнул студент Сорбонны по окончании второго куплета. – Мы хотим слушать другую песню, спой нам твою любимую арию Маделены или песенку Флоринды, а иначе, любезный, ты не тронешься с места.
– Ба! – сказал Шико. – Вы плохие ценители. Песня прелестна, и я подаю голос за повторение. Вам были бы более по вкусу шутовские куплеты труппы отеля Клюни на улице Матюрен. Как нравится вам церковная песня в их последней шутовской пьесе «Веселый фарс глупых софистов»?
– Черт возьми! Это что еще за насмешки! – закричал один из студентов с огромным бумажным воротником. – Неужели вы позволите сбить себя с толку этой сороке, ускользнувшей из своей клетки и прилетевшей сюда, чтобы вдоволь наболтаться?
– Хорошо еще, – возразил Шико, – что я не нарядился в павлиньи перья: как ни распускай хвост, а ворона всегда видна. Сколько ни подражай осел реву льва, он все же останется ослом. Хотя я и шут, но не подобие шута; я обезьяна, а не тень обезьяны. Мне передавали ваш клич «По шее узнается теленок!», ну, так если бы вздумали оценивать вас по этому правилу, то между вами не нашлось бы ни одного, годного на убой.
– Тысяча чертей! – заревел взбешенный студент. – Хотя бы вы пользовались в десять раз большей милостью в вашем качестве шута, вы все равно раскаялись бы в этой дерзости. – Говоря это, он замахнулся на Шико.
– Назад! – воскликнул Блунт, отбивая своей палкой удар, предназначенный шуту. – Окровавленная голова не идет к этому веселому костюму. Прибереги свои удары для другого, более способного возвратить их тебе. Разве ты не видишь, что у него деревянная шпага?
– Так пусть он придерживает свой язык, – с гневом продолжал студент.
– Ха-ха-ха! – кричал Шико, смеясь во все горло. – Не останавливайте его. Я хочу биться с ним не на жизнь, а насмерть. Ставлю мою погремушку против его жабо, что убью его с первого удара.
– Между тем мы потеряли из виду нашего певца, – сказал студент Сорбонны. – Куда он девался?
– Мне кажется, что он скрылся, – воскликнул Каравайя, – я его нигде не вижу!
«Я не заметил, как он ушел, – подумал Огильви, – но он хорошо сделал. Я не мог бы отказать в помощи этому молодому человеку, а между тем возмутительна сама мысль – быть замешанным в ссору комедианта, а в особенности итальянского. Странно только, что его лицо у меня постоянно перед глазами, но я не хочу больше думать об этом».
Тем не менее, против желания, Огильви не мог отвести глаз от задних рядов студентов, отыскивая среди них беглеца. Но он напрасно искал. Во время смятения, вызванного словами Шико, и, вероятно, с его помощью или при содействии англичанина венецианец успел незаметно скрыться.
– Не спрятал ли его мэтр Шико в свой карман, он достаточно велик для этого! – воскликнул студент Сорбонны.
– Или в рукава кафтана, – продолжал бернардинец.
– Или не проглотил ли он его, как Гаргантюа странника, – добавил со смехом Каравайя.
– Или как ты проглотил бы стакан хересу, если бы тебе его предложили, а при случае и свои собственные слова, сеньор кабальеро! – засмеялся шут.
– Сеньор дьявол! – заревел Каравайя, вынимая шпагу, – я раскрошу тебя на столько же кусков, сколько их в твоем кафтане!
– На столько частей, сколько зазубрин на твоей шпаге, самим тобой сделанных, – возразил Шико со злой гримасой, – или богохульств на твоем языке твоего собственного изобретения, или украденных монет в твоем кошельке, или рубцов на спине, ха-ха-ха! Разруби меня на столько кусков, и все же их не наберется столько, сколько за тобой бесчисленных грешков.
– Черт побери! Пустите меня, я проучу этого дерзкого нахала! – ревел Каравайя, взбешенный как бык, раздражаемый матадором, потрясая шпагой, топая ногами и с трудом удерживаемый студентами.
Но ничто не могло унять безумной веселости шута, со смехом наблюдавшего за безуспешными усилиями испанца добраться до него. Не выказывая ни малейшего страха, он оставался на месте так же беззаботно, словно ему не угрожала никакая опасность. Он даже продолжал едко насмехаться и, вероятно, был бы наказан за свое нахальство, если бы новое происшествие не дало делу более благоприятного для него оборота и не привлекло всеобщего внимания.
Двери Наваррской коллегии вдруг отворились, и продолжительный взрыв аплодисментов внутри возвестил об окончании диспута. Не оставалось более никакого сомнения, что исход был благоприятен Кричтону, имя которого примешивалось к рукоплесканиям, раздававшимся повсюду. Возбужденная в высшей степени, толпа пришла в движение. Огильви не мог долее воздерживаться. Пробиваясь вперед с неимоверными усилиями, он добился места у самого входа. Первый, кто бросился ему в глаза, был человек высокого роста в блестящей стальной кирасе, опоясанный шелковым шарфом, на боку которого висела длинная шпага с великолепным эфесом. На плече он держал копье около шести футов длины.
– Кричтон стал победителем? – спросил Огильви капитана гвардии, так как это был именно он.
– Он возбудил всеобщее удивление, – отвечал капитан, который, против обыкновения подобных особ, не был возмущен этим воззванием к его любезности, – и ректор воздал ему все почести, которыми располагает университет.
– Ура старой Шотландии! – воскликнул Огильви, бросая вверх свою шапку. – Я был в этом уверен. Этот день останется навсегда памятным для меня.
– По крайней мере, у тебя будет причина не забывать его, – проворчал Каравайя, который, стоя напротив Огильви, слышал его восклицание. – А может быть, и у него тоже, – добавил он, нахмурившись и закутываясь в плащ.
– Если благородный Кричтон – ваш соотечественник, то вы имеете полное право гордиться им, – продолжал капитан Ларшан. – Память его сегодняшних достижений не умрет, пока ученость будет уважаться. Никогда прежде не видали в этой коллегии таких изумительных, всеобъемлющих познаний. Клянусь Богом, я просто ошеломлен, да и не я один, а все присутствующие. Достаточно сказать вам, что профессора в ознаменование его беспримерной учености и его необыкновенных внешних преимуществ в адресе, поднесенном ему по окончании диспута, почтили его эпитетом Несравненный. Он несомненно заслуживает, чтобы это прозвище осталось за ним и впоследствии.
– Несравненный Кричтон! – повторил Огильви. Слышите ли вы? Титул, пожалованный ему всем конклавом университета! Ура! Несравненный Кричтон! Это имя найдет отклик в сердце каждого истинного шотландца. Клянусь святым Андреем! Вот истинно прекрасный день!
– И все-таки, – перебил Ларшан, улыбаясь восторженности Огильви и описывая круг острием своего копья, – я вынужден вас отодвинуть, господа студенты, чтобы освободить проход ректору и его свите. Эй, стрелки, очистите дорогу! Позовите отряд барона д’Эпернона и виконта Жуайеза, а также солдат его превосходительства сеньора Рене де Виллекье. Имейте терпение, господа, вы скоро узнаете все подробности.
Сказав это, он удалился, а солдаты, менее снисходительные, чем их начальник, сумели быстро отодвинуть толпу.
Ректор
По мере того как стрелки продвигались вперед, выставляя по солдату через каждые десять шагов, студенты, подаваясь назад, образовывали две плотные стены.
Глубокая тишина воцарилась в рядах зрителей. Все взоры устремились на сводчатый вход академии, не было слышно ни одного слова. Все казались такими же неподвижными, как статуи Филиппа Красивого[32] и его супруги Жанны Наваррской (основательницы этого заведения), стоявшие немыми свидетелями этой сцены в своих нишах у главного входа. В это время из главной двери выходила столь густая толпа важных сановников в мантиях, что все пространство между двумя линиями студентов было тотчас же наполнено движущейся массой мантий и колпаков.
Во главе процессии, потрясая голубым жезлом, в изобилии усыпанным золотыми лилиями, – то ставя его на землю, то высоко вздымая над головой, – шел герольд, с поступью и улыбкой достойными Мальволио[33]; на его плаще виднелся герб университета: рука, нисходящая с неба и держащая книгу, окруженная тремя золотыми лилиями на голубом поле.
Герольд прошел, посматривая на студентов с презрительной улыбкой.
За ним следовали представители всех факультетов, которые, вследствие какой-то случайности, до того перемешались между собой, что невозможно было установить порядок шествия по старшинству.
Все по возможности спешили вперед. Медики наступали на богословов и на художников, между тем как доктора прав старались, причем довольно неучтиво, опередить всех прочих. Это были здоровые молодцы, сгибавшиеся под тяжестью своих серебряных палиц и одетые в мантии – черные, голубые, фиолетовые или темно-красные, каждый цвет означал факультет, к которому принадлежал носивший ее.
За ними следовали, еще в большем беспорядке, высшие сановники факультетов, напрасно старавшиеся соединиться и составить что-нибудь похожее на кортеж. Ежеминутно нарушался коллегиальный этикет. Здесь рядом с прокурором Четырех Наций в красной судейской мантии стоял доктор богословия в своей черной одежде, опушенной горностаем, проклиная мысленно это сближение и не скрывая своего неудовольствия по данному поводу. Там доктор медицины в алой мантии со светло-серым шитьем получал толчки от более поворотливого лиценциата, одетого в черное платье, окаймленное белым мехом. Ни одна степень не была уважена. Докторов прав канонических и докторов прав гражданских, которые при выходе находились вместе и одежда которых состояла из алой мантии и меховой шапочки, очень неучтиво затолкали, когда они захотели удержаться на своих местах при натиске молодых бакалавров медицины.
Несмотря на это смешение костюмов, которые присутствовали в таком изобилии и так были скучены, что представляли собой нечто похожее на цвета радуги в лучах заходящего солнца, несмотря на полное отсутствие порядка, которое строго осуждалось старшинами и стоило им большого терпения, несмотря на страшную давку, все доктора, профессора, бакалавры и лиценциаты единогласно признавали, что диспут, на котором они присутствовали, был проведен с искусством, невиданным со времен Абеляра[34] и Беранже, и что одержавший над ними победу Кричтон победил целый мир познаний и учености.
Вдруг раздался и пронесся до подошвы горы Святой Женевьевы пронзительный звук рога. На этот призыв немедленно ответил гул спешившей группы всадников. Постепенно гул этот становился все слышнее, и не прошло нескольких секунд, как два отряда королевской гвардии – каждый в пятьдесят стрелков – в полной форме и на великолепных лошадях подъехали к площади и остановились позади студентов. Кроме этих солдат можно было видеть еще и многочисленную свиту Рене де Виллекье, состоявшую не только из его собственных лакеев и служителей в роскошной ливрее из голубого и красного сукна, но частью и из стрелков королевской стражи под предводительством их начальника. Они окружали огромную парадную карету, запряженную фландрскими лошадьми в богатой сбруе. Зрелище было великолепное, и студенты, хотя и не совсем довольные присутствием такого множества посторонних и, может быть, немного обеспокоенные их многочисленностью, не выказали ни малейших признаков неудовольствия. Вдруг ход процессии был прерван. Шедшие впереди остановились, и все общество, повернувшись лицом к коллегии, образовало три полукруга. Профессора находились впереди и составляли самый малый и близкий к коллегии полукруг, верховые стрелки – самый большой и отдаленный, студенты – средний и самый стесненный. Но перед входом было оставлено небольшое пустое пространство.