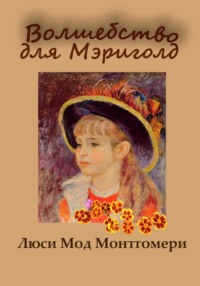
Волшебство для Мэриголд
А Старшая бабушка всё ещё дремала. Видела ли она давно окаменевшие лица вновь яркими и живыми? Звучали ли в лунном саду лёгкие шаги, призывные голоса, которые лишь она могла слышать? Чьи голоса звали её из-за елей? Холодок пробежал по спине Мэриголд. Она ведь была абсолютно уверена, что они с бабушкой одни в саду.
«Итак, как ты себя чувствуешь здесь?» – наконец спросила Старшая бабушка.
«Вполне уютно», – испуганно сказала Мэриголд.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Джордж Хепплуайт (1727–1786) был краснодеревщиком. Он входит в тройку лучших английских мебельщиков 18-го века, наряду с Томасом Шератоном и Томасом Чиппендейлом. Образцов его изделий не осталось, но его имя связывается с особым стилем легкой элегантной мебели, которая была в моде в 1775 – 1800г.г.
2
Нина была членом Женского Союза христианской умеренности и Международного Океанографического общества по обмену информацией.
3
Эмиль Куэ – французский психолог и фармацевт, разработавший метод психотерапии и личностного роста, основанный на самовнушении.
4
Геллеспонт, так назывался пролив, разделявший фракийский Херсонес от Азии. Он получил, по преданию, свое название от имени дочери Атаманта и Нефелы, Геллы, на пути в Колхиду свалившейся с златорунного барана и потонувшей в проливе. Ныне этот морской путь называется Дарданеллами, Галлипольским проливом.
5
Миссис Гаммидж – брюзгливая, пессимистичная, вечно жалующаяся особа, героиня романа Диккенса «Дэвид Копперфильд», имя, ставшее нарицательным.
6
Пропустите вперед дам (франц)
7
Harriet Ellen Louise Lesley, инициалы читаются HELL, то есть, ад.
8
Герои другой книги автора.
9
Притчи, стих 31:12
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов