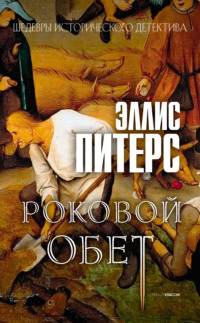
Роковой обет
– У меня ни за что не хватило бы духу так огорчить беднягу, – сказал Хью. – Будем и дальше держать рот на замке – так оно лучше для всех. Слава Богу, я не имею отношения к церковному праву; мое дело – следить за соблюдением мирских законов, что далеко не просто в стране, где закон попирается чуть ли не на каждом шагу.
Не приходилось сомневаться в том, что Кадфаэль может рассчитывать на сохранение своего секрета. Впрочем, это подразумевалось само собой.
– Вы оба – и ты, Кадфаэль, и святая – говорите на одном языке и, надо полагать, прекрасно понимаете друг друга даже без слов. Когда, ты сказал, начнется ваш праздник – двадцать второго июня? Вот и посмотрим: вдруг она сжалится над тобой и ниспошлет чудо.
А почему бы и нет, размышлял Кадфаэль час спустя, направляясь к вечерне по зову колокола. Сам-то он навряд ли заслуживает такой чести, но среди множества паломников наверняка найдется и достойный особой милости – тот, чью молитву по справедливости невозможно отвергнуть. И если святая совершит чудо ради этого страждущего, он, Кадфаэль, смиренно примет это как знак ее одобрения. Пусть ее останки покоятся в восьмидесяти милях отсюда – что с того? Она ведь и в земной жизни претерпела мученическую смерть и была чудесным образом воскрешена. Что может значить расстояние для столь могущественной святой? Она, будь на то ее воля, вполне могла бы, оставаясь в одной могиле с Ризиартом на старом кладбище, где в зарослях боярышника мирно щебечут пташки, незримо, бестелесным духом присутствовать и здесь, в раке, скрывающей кости недостойного Колумбануса, пролившего кровь ближнего в угоду собственному суетному тщеславию.
Так или иначе, а к вечерне Кадфаэль явился в добром расположении духа: ему заметно полегчало от того, что он поделился своей тайной с другом. Некогда Кадфаэль и Хью Берингар встретились как противники, и каждый испробовал немало изощренных уловок, стараясь перехитрить другого. Соперничество позволило им оценить друг друга и понять, что у них – немолодого монаха, а наедине с собой Кадфаэль признавал, что лучшая пора его жизни уже миновала, и находившегося в самом начале пути честолюбивого дворянина – довольно много общего. Господь наделил Хью незаурядным умом и проницательностью, и, несмотря на молодость, он успел многого добиться в жизни. Хотя король Стефан был лишен власти и пребывал в заточении, никто не оспаривал у Берингара права занимать пост шерифа графства Шропшир, а отдохнуть от бремени общественных забот сей государственный муж мог на островке семейного счастья, в собственном городском доме на холме возле церкви Святой Марии, где его всегда ждала любящая жена и годовалый сынишка.
Кадфаэль улыбнулся, вспомнив своего крестника – крепенького, непоседливого чертенка, уже вовсю бегавшего по комнатам и умевшего самостоятельно залезать на колени крестному отцу, которого с радостным лепетом без устали тормошил. Каждый мужчина просит у Всевышнего сына. Хью Берингара Господь наградил сулившим радостные надежды наследником, Кадфаэлю же послал крестного сынишку – шалуна и любимца.
В конце концов, размышлял монах, мир устроен так, что, несмотря на жестокость, алчность и постоянные раздоры, в нем все же находится место для простого человеческого счастья. Так повелось испокон веку, и так будет всегда, покуда в сердцах людских не угаснет неукротимая искра любви.
Закончился ужин, и после короткой благодарственной молитвы братья, отодвигая лавки, стали подниматься со своих мест в трапезной. Первым встал из-за стола приор Роберт Пеннант. Худощавый, более шести футов ростом, с суровым аскетическим лицом цвета слоновой кости и тонзурой, окруженной серебряными сединами, он выглядел величественно, как и подобает прелату.
– Братья, – промолвил приор, – я получил еще одно послание от отца аббата. Он уже доехал до Уорика и надеется к четвертому июня быть в обители. Отец аббат наказывает нам со всем усердием готовиться к празднованию перенесения мощей святой Уинифред, всемилостивейшей нашей покровительницы.
Вполне вероятно, что приор, как ему и полагалось по должности, получил от аббата такого рода указания, однако приор Роберт всячески выпячивал свою роль, выставляя себя чуть ли не благодетелем святой покровительницы аббатства. Он обвел взглядом столы, останавливаясь на тех братьях, которые более других были заняты подготовкой к празднеству.
– Брат Ансельм, ты отвечаешь за музыку. У тебя все готово?
Брат Ансельм, регент монастырского хора, все помыслы которого были посвящены мелодиям, песнопениям и музыкальным инструментам, рассеянно поднял голову и уставил на приора широко раскрытые глаза:
– Весь ритуал продуман и разработан, – ответил он, слегка удивляясь тому, что его спрашивают о само собой разумеющемся.
– А ты, брат Дэнис, подготовил все необходимое для приема гостей? Сумеем ли мы разместить и накормить такое множество паломников? Думаю, нам потребуется каждый свободный уголок и каждая миска.
Брат Дэнис, попечитель странноприимного дома, привыкший принимать и обустраивать гостей и уверенно управлявший своим хлопотным хозяйством, подтвердил, что все необходимые приготовления сделаны, припасов заготовлено в достатке и паломники – сколько бы их ни прибыло – будут приняты как должно.
– Наверняка следует ожидать больных и увечных, которым потребуются уход и лечение, – продолжил приор, – ведь за тем они к нам и приходят.
Брат Эдмунд, ведавший лазаретом, не дожидаясь, когда приор Роберт обратится к нему, со знанием дела заявил, что у него все учтено – постелей и снадобий хватит на всех немощных, и добавил, что брат Кадфаэль заготовил в избытке настоев и мазей, какие могут потребоваться.
– Это хорошо, – одобрил приор Роберт и продолжил: – Так вот, у отца аббата есть к нам еще одно, особое указание. Он повелел впредь до его возвращения на каждой мессе возносить молитву за упокой души одного доброго человека, пытавшегося, как и подобает истинному христианину, примирить враждующих и павшего в Винчестере жертвой предательского убийства.
Поначалу брату Кадфаэлю, как, наверное, и большинству монахов, показалось, что гибель одного, пусть даже и достойного человека, далеко на юге едва ли заслуживает столь исключительного внимания в стране, где насильственная смерть стала обыденным явлением. Что могла значить кончина одного после усеянного трупами поля Линкольна или резни в Вустере, залитом кровью. Все, начиная от могущественных графов и баронов и кончая разбойниками с большой дороги, ни в грош не ставили ни закон, ни человеческую жизнь. Но потом Кадфаэль постарался взглянуть на это событие глазами аббата. Хорошего человека убили в том самом городе, где прелаты и бароны вели переговоры об установлении мира, убили при попытке предотвратить кровопролитие. Чуть ли не у ног папского легата. Воистину это черное злодеяние – кощунство, почти такое же, как если бы несчастного растерзали перед алтарем. Несомненно, Радульфус усмотрел в этом случае горестный символ попрания закона и отказ от надежды на достижение мира, а потому и повелел поминать убиенного в молитвах, возносимых в его обители. Это должно было послужить знаком признания заслуг покойного и обеспечить ему воздаяние на небесах.
– Отец аббат наказывает нам, – возгласил приор, – в благодарность за явленное стремление к справедливости возносить молитвы за упокой души Рейнольда Боссара – рыцаря, служившего императрице Матильде.
– Ну и дела, велят молиться за врага, – с сомнением, покачав головой, промолвил молоденький послушник, когда братия принялась обсуждать наказ своего пастыря.
В Шропшире привыкли держать сторону короля Стефана, что и немудрено: уже четыре года графство находилось в его власти, управлялось в соответствии с его указами назначенным им шерифом и при этом счастливо избежало многих невзгод, обрушившихся на иные провинции Англии.
– Ты не прав, – мягко укорил паренька наставник послушников брат Павел. – Добрый и достойный человек не враг нам, пусть даже в этой распре он и принял противоположную сторону. Мы, монахи, не приносим вассальной присяги, но, когда беремся судить о мирянах, должны иметь ее в виду и почитать тех, кто верен ей так же, как и мы своим обетам. Никому нельзя поставить в вину то, что он хранит верность, неважно – королю или императрице. А покойный наверняка заслуживал уважения, иначе отец аббат не велел бы нам поминать его в молитвах.
Брат Ансельм, сидевший на каменной скамье, тем временем отбивал на ней ритм и нараспев повторял имя убиенного: Рейнольд Боссар, Рейнольд Боссар, Рейнольд Боссар…
Наложившееся на ритм, многократно повторяемое имя засело в голове у Кадфаэля, хотя ему, как и всем остальным, ни о чем не говорило: ни о внешности, ни о привычках, ни о характере. Одно лишь имя, которое все равно что душа без тела или тело без души. Однако оно продолжало звучать в голове монаха и когда тот ушел в свою келью и, прочитав молитву на сон грядущий, снял сандалии и улегся в постель. Имя это, по-видимому, не оставило Кадфаэля и в дреме, во всяком случае, о наступлении грозы монах узнал по двойной вспышке молнии, полыхнувшей как бы в такт распеву. Молния разбудила Кадфаэля. Лежа с закрытыми глазами, он прислушивался в ожидании громового раската, которого не было так долго, что монах подумал, уж не пригрезилась ли ему и молния, но тут гром все же послышался – отдаленный, тихий, но как-то по-особенному зловещий… За опущенными веками вспыхивали и гасли молнии, а гром доносился с опозданием откуда-то издалека…
Откуда? Уж не из прославленного ли города Винчестера, где важные лорды вершили судьбу страны, города, которого Кадфаэль отроду не видал и, возможно, никогда не увидит. Что могла означать исходившая оттуда угроза – не обрушит же отдаленный гром стены Шрусбери? Но как бы то ни было, засыпая, Кадфаэль не мог отделаться от беспокойства, вызванного недобрым предчувствием.
Глава вторая
Третьего июня аббат Радульфус, сопровождаемый своим писцом и капелланом братом Виталием, въехал в ворота аббатства Святых Петра и Павла и был встречен всею своею паствой – пятьюдесятью тремя братьями, семью послушниками, шестью учениками монастырской школы, а также управителями и служками из мирян. Аббат – высокий, подтянутый мужчина с худощавым аскетическим лицом и проницательным взглядом человека, искушенного в ученых материях, – был настолько деятелен и неутомим, что, едва спешившись, тут же направился к мессе, даже и не подумав о том, чтобы отдохнуть или освежиться после долгого путешествия верхом. Не преминул он напомнить братии о необходимости вознести, согласно его предписанию, молитву за упокой души Рейнольда Боссара, злодейски убиенного в Винчестере вечером в среду девятого апреля в лето Господне 1141. Итак, минуло почти два месяца с того дня, как в далеком Винчестере погиб этот рыцарь, но до сих пор оставалось неясным, какое отношение его кончина имеет к городу Шрусбери и, паче того, к здешней бенедиктинской обители.
Рассказ о достопамятном совете, где решалось будущее страны, аббат отложил на следующий день, приурочив его к утреннему собранию капитула, однако, когда в обитель явился Хью Берингар и попросил у Радульфуса аудиенции, ему не пришлось долго ждать. Состояние дел в государстве требовало тесного сотрудничества между духовной и светской властями, и именно благодаря такому сотрудничеству в графстве удавалось поддерживать относительный порядок.
Безыскусное, скромное убранство приемной аббата в его личных покоях соответствовало строгому, аскетическому облику самого Радульфуса. Сквозь два узеньких зарешеченных оконца на устланный каменными плитами пол падали лучи солнца, стоявшего в этот час в зените. Свежий ветерок раскачивал ветви деревьев в маленьком отгороженном садике; тени и блики света, причудливо переплетаясь, играли на темных деревянных резных панелях. Хью сидел в тени, глядя на высвеченный солнцем, резко очерченный профиль аббата.
– Вам, отец аббат, прекрасно известна моя приверженность, – промолвил Хью, любуясь благородными чертами невозмутимого лица духовного пастыря, – так же как и мне – ваша. По многим вопросам мы придерживаемся одного мнения. Я внимательно выслушаю все, что вы соблаговолите сообщить мне о событиях в Винчестере, ибо мне необходимо знать об этом.
– А мне – осмыслить, – с печальной улыбкой отозвался Радульфус. – Я отправился в Винчестер, повинуясь распоряжению того, кто имеет право созывать прелатов, и отправился туда, зная, как обстоят дела: король в плену, а большая часть южных графств оказалась в руках императрицы, которая получила таким образом возможность претендовать на верховную власть по праву сильного. Думаю, мы оба – и вы, и я – догадывались, о чем пойдет разговор, но я расскажу вам обо всем, чему мне довелось стать свидетелем, так, как я это понял. Мы съехались туда в понедельник, седьмого апреля, но делами в тот день не занимались – весь он был потрачен на церемонию встречи приезжавших прелатов, а также на оглашение писем с извинениями от тех, кто предпочел отсидеться дома, а таких тоже набралось немало. Императрица тогда находилась в городе, хотя за время, пока проходил наш совет, совершила несколько поездок по окрестностям – была, например, в Ридинге. На самом совете императрица не присутствовала – на это у нее хватило такта.
Говорил аббат сухо, и по тону было нелегко понять его истинное отношение к поведению Матильды.
– Ну а на второй день… – Радульфус умолк, припоминая происходившее у него на глазах. Хью, не шелохнувшись, ждал, когда тот продолжит. – …на второй день, восьмого апреля, легат выступил перед собравшимися с большой речью.
Представить себе эту картину не составляло труда. Генри Блуа, епископ Винчестерский, папский легат в Англии, младший брат, а следовательно, и сторонник короля Стефана, непревзойденный мастер политической интриги и один из самых дальновидных и влиятельных вельмож королевства, несмотря на всю свою хитрость и многоопытность, оказался в таком положении, что даже в зале капитула собственного епископского собора не чувствовал себя уверенно и был вынужден оправдываться и защищаться.
Хью никогда не встречал епископа, не бывал в тех краях, где властвовал Генри, и знал о нем только понаслышке, но все же воочию представил себе властолюбивого прелата, с горделивым спокойствием открывшего собрание высокого духовенства. Многие присутствовали на собрании вопреки своему желанию. Перед епископом между тем стояла непростая задача: отмежеваться от потерпевшего поражение брата, ярым приспешником которого Генри до сих пор слыл, и без урона своей чести сохранить положение и влияние. И учитывать притом, что за каждым его шагом пристально следит императрица – женщина решительная и твердая. Генри понимал, что ее гнев или милость зависят во многом от того, сумеет ли он склонить строптивых епископов и аббатов к принятию выгодного для нее решения и укрепить ее воцарение авторитетом церкви.
– Говорил он долго и нудно, – откровенно признался аббат, – но убеждать он умеет и в конечном счете внушил-таки всем, что мы собрались для того, чтобы спасти Англию от разорения и окончательной погибели. Он расписывал времена покойного короля Генри, когда в стране царил мир и порядок, и напомнил нам, как старый государь, лишившись сына, повелел своим баронам принести клятву верности единственному своему ребенку – дочери Матильде, ныне вдовствующей императрице, сочетавшейся вторым браком с графом Анжуйским. Так те бароны в большинстве своем и поступили, причем отнюдь не последним среди них был сам Генри Винчестерский.
Хью Берингар, верность которого пока не подвергалась подобному испытанию, понимающе кивнул и, полупренебрежительно, полусочувственно закусив губу, пробормотал:
– Выходит, его преосвященству пришлось подыскивать объяснения.
Аббат ни словом, ни взглядом не показал, что уловил содержавшуюся в высказывании шерифа колкость в адрес его собрата – служителя церкви, и продолжал рассказ:
– Он пояснил, что длительная задержка, связанная, по-видимому, с пребыванием императрицы в Нормандии, вызвала естественную озабоченность состоянием дел в стране. Безвластие опасно, и потому его брат, граф Стефан, предложил себя в государи, так он и сказал, и по всеобщему согласию был принят как король. Епископ Генри не отрицал своей роли в этом событии, ибо не кто иной, как он, заверял Бога и людей в том, что, став королем, Стефан будет чтить Святую Церковь и соблюдать справедливые законы и обычаи старой доброй Англии. Но, увы, заявил епископ, король Стефан не оправдал возлагавшихся на него надежд, к его, Генри, великой печали и скорби, ибо именно он был поручителем за брата пред ликом Всевышнего.
«Вот, стало быть, каким образом преподнес Генри прелатам свое унизительное отступничество, – подумал Хью Берингар. – Хитер, ничего не скажешь: свалил всю вину на Стефана, который, по его словам, не выполнил ни одного своего обещания и обманул тем самым не только своего брата, но и Отца Небесного, терпение Которого иссякло. В таких обстоятельствах Генри, как истинный служитель церкви, вынужден был приветствовать смену монарха».
– В частности, – пояснил Радульфус, – он припомнил королю то, что тот дерзнул преследовать епископов и некоторых из них даже довел до гибели.
Последнее утверждение в известной мере соответствовало действительности, хотя немилость Стефана стоила жизни всего лишь одному прелату – Роберту из Солсбери, да и тот, будучи немощным старцем и лишившись власти, умер от огорчения, безо всякого насилия.
– Следовательно, так он сказал, – с расстановкой произнес аббат, – если Господь явил свою волю, ниспослав королю поражение и плен, ему, Генри, принужденному выбирать между привязанностью к брату и преданностью Отцу Небесному, ничего не остается, как склониться пред волей Небес. Нас же он созвал к себе, дабы мы не допустили конечной погибели обезглавленного ныне государства. Не далее как вчера, заявил он, создавшееся положение было серьезнейшим образом обсуждено на совещании большей части епископов и аббатов Англии, которые, по его утверждению, обладают исключительной прерогативой избрания государя и освящения его власти.
Аббат говорил спокойно и размеренно, но Хью насторожился, ибо заявление Генри было беспримерным и, судя по тону Радульфуса, отнюдь не казалось тому бесспорным. Легату пришлось спасать свою честь, а поскольку язык у него был без костей, он сумел скрыть свое малодушие за сплетением словесных кружев.
– А разве было такое совещание? – спросил Хью. – Вы присутствовали на нем, отец аббат?
– Оно состоялось, – подтвердил Радульфус, – но провели его наскоро, и о серьезном обсуждении там не было и речи. Говорил, главным образом, сам легат, ну а другие сторонники императрицы ему подпевали.
Аббат промолвил это бесстрастно и невозмутимо, однако стало ясно, что себя он к приверженцам Матильды не причисляет.
– И я не помню, чтобы тогда он приписывал нашему собранию столь высокую прерогативу. Он сказал лишь, что мы, как прелаты, пришли к единодушному решению, хотя никакого подсчета голосов не велось. Да он и не предлагал голосовать, очевидно опасаясь, что многие с ним не согласятся. Решение же наше, по его словам, состояло в том, чтобы предложить верховную власть над Англией дочери покойного короля, достойной наследнице его благочестия и миролюбия. Пусть она осыплет благодеяниями нашу исстрадавшуюся страну, подобно тому как ей благоволил покойный монарх. Мы же от всего сердца – это его слова! – предлагаем ей свою неколебимую верность.
Таким образом, легат весьма ловко выпутался из затруднительного положения, хотя вряд ли стоило рассчитывать на то, что столь решительная, жесткая и злопамятная особа, как императрица Матильда, безоглядно поверит в его «неколебимую верность», тем паче что предлагалась она уже не впервые. Ясно, что изменившему раз ничего не стоит изменить снова. Правда, императрице лучше было бы проявить дальновидность, обуздать свою подозрительность и, сделав вид, будто она верит в искренность легата, пойти навстречу его осторожным попыткам снискать ее расположение. Впрочем, Матильда была не из тех, кто склонен прощать и забывать.
– Неужто ему никто не возразил? – поинтересовался Хью.
– Никто. Возможностей было мало, а желающих, по правде говоря, и того меньше. Ну а после этого епископ объявил, что пригласил к себе депутацию из Лондона и уже сегодня ожидает ее прибытия, а посему предложил нам продолжить заседание на следующее утро. Однако лондонцы приехали лишь на следующий день, отчего и мы собрались несколько позже. Но тем не менее они явились, правда, физиономии у них были хмурые и смотрели они исподлобья. Члены депутации заявили, что они представляют всю лондонскую городскую общину, в которую после битвы при Линкольне вступили и многие бароны, и что, хотя они не собираются оспаривать законность решения нашего совета, все же намерены единодушно ходатайствовать об освобождении короля Стефана.
– Смело, – подняв бровь, заметил Хью. – А что сказал на это господин епископ? Неужели это его не смутило?
– По-моему, он пришел в замешательство, но сумел с ним справиться и тут же разразился длиннющей речью – а это лучший способ заставить умолкнуть других. Он принялся укорять лондонцев за то, что они приняли в городскую общину людей, которые сперва дурными советами довели короля до того, что он забыл Бога и Закон и, сбившись с пути истинного, был наказан поражением и пленом, а потом еще и бросили его на поле боя и теперь тщетно призывают к его вызволению. Он уверял депутацию, что ныне эти ложные друзья Стефана заигрывают с горожанами, преследуя свои корыстные цели.
– Если епископ имел в виду фламандцев, пустившихся наутек из-под Линкольна, – позволил себе вставить замечание Хью, – то во многом он прав. Но чего ради им заискивать перед горожанами? Впрочем, не в этом дело. Как повели себя лондонцы? Хватило им мужества отстоять перед Генри свое мнение?
– Они вроде бы растерялись и, не зная, что ответить, отошли в сторонку – посовещаться. И тут в наступившей тишине неожиданно выступил один писец. Он протянул епископу свиток и попросил прочесть его вслух. Держался писец так уверенно, что я до сих пор удивляюсь, как это легат не уступил его настоянию. Но лорд Генри сначала развернул пергамент и пробежал его глазами, а в следующий миг произнес гневную тираду. Он заявил, что ни единого слова из этого нечестивого документа, составленного злокозненными врагами церкви, не прозвучит в столь святом месте, как зал соборного капитула, ибо это было бы оскорблением собравшихся здесь достопочтенных прелатов. И тогда, – мрачно продолжил аббат, – этот никому не ведомый писец взял да и выхватил свиток из рук епископа и громко прочел его, не обращая внимания на попытки заставить его умолкнуть. Это оказалось послание королевы, супруги плененного короля, обращенное ко всем собравшимся прелатам, и в первую очередь к легату, брату ее супруга. Она призывала вспомнить о чести и верности коронованному государю, освободить короля из плена, куда он угодил по причине измены, и восстановить его на престоле. «А я, – сказал этот отважный человек, прочитав послание, – служу писцом у ее величества, и если вам угодно знать мое имя, то зовут меня Христиан, и смею заверить, что я такой же добрый христианин, как и любой из вас, и при этом предан госпоже моей королеве».
– И впрямь храбрый малый, – промолвил Хью, присвистнув от восхищения, – хоть я сомневаюсь, чтобы отвага помогла ему добиться своего.
– Легат отозвался речью, во многом напоминавшей ту, что он произнес днем раньше, но куда более страстной и яростной. Ему удалось так застращать лондонцев, что те присмирели, и хоть и неохотно, но все же согласились сообщить своим согражданам о решении нашего совета и попытаться убедить горожан поддержать его. Что же касается писца Христиана, так разгневавшего епископа Генри, то, когда он в тот же вечер ни с чем возвращался к королеве, на него набросились четверо или пятеро никому не известных негодяев. Однако на выручку писцу пришел один из рыцарей императрицы со своими сквайрами. Они стали оттаскивать нападавших, крича, что стыд и позор нападать на честного человека, бесстрашно выполнявшего свой долг, и что убийство не способ доказательства правоты. В итоге писец отделался несколькими царапинами, зато рыцарю засадили нож в спину, да так, что сталь пронзила сердце. Несчастный умер прямо на улице, в сточной канаве, в укор всем нам, заявлявшим, что мы стремимся к восстановлению мира и прекращению вражды.
Судя по затаенному гневу, звучавшему в голосе Радульфуса, случившееся глубоко его задело. Это бессмысленное злодеяние как бы перечеркнуло все разглагольствования о добре и справедливости. Бесчестное нападение на человека, открыто высказавшего свои взгляды, а к тому же еще и гнусное убийство великодушного рыцаря, пытавшегося предотвратить кровопролитие, – все это казалось весьма дурным предзнаменованием, не сулившим успеха затее легата.
– И за это убийство никто не поплатился? – нахмурясь, спросил Хью.
– Нет. Нападавшие разбежались и скрылись в темноте. Если кто и знает имя убийцы или место, где он прячется, то предпочитает держать язык за зубами. Да и то сказать, смерть теперь самое обыденное дело, и даже такое подлое убийство будет скоро забыто, как забыто множество ему подобных. А на следующий день наш совет закончился. Многие сторонники короля Стефана подверглись отлучению, и легат благословил тех, кто выступал на стороне императрицы, и проклял всех ее противников. После этого он закрыл совет, но многих настоятелей монастырей, в том числе и меня, удерживал при себе еще несколько недель.

