История метафизики. Том 1, часть 1. Античная и средневековая метафизика
Эдуард фон Гартман
В своем монументальном двухтомном труде «История метафизики» (1899—1900) немецкий философ Эдуард фон Гартман приступил к обширному поиску основного принципа, лежащего в основе всей реальности. Стремясь преодолеть традиционный дуализм между идеализмом и материализмом, Гартман предложил уникальную перспективу, утверждая, что основополагающим началом является «воля».
История метафизики
Том 1, часть 1. Античная и средневековая метафизика
Эдуард фон Гартман
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Эдуард фон Гартман, 2024
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0064-0869-2 (1-1)
ISBN 978-5-0064-0870-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I. Античная метафизика
1. Доплатоническая метафизика
Научная трактовка метафизики впервые встречается у греков. Здесь впервые возникает стремление освободить метафизику от пут, связанных с образно разработанными религиозными воззрениями, поставить ее на собственные ноги и привести в научную форму посредством интеллектуальных концептуальных размышлений.[1 - Ср. мою «Философию религии», часть I: «Das religi?se Bewusstsein der Menschheit im Stuiengang seiner Entwicklung», и о Лаотсе «Ges. Studien und Aufc&tze», A. VIIL, pp. 166—183.]
Документальная история греческой метафизики начинается для нас только с Платона; все более ранние попытки известны нам только по бессвязным цитатам и по сомнительным сообщениям третьих лиц. Реконструкция доплатоновской метафизики по столь скудному материалу, несомненно, является задачей, привлекательной для филологов и историков; ведь ничто так не жаждет человек, как решение таких проблем, в которых объединяющее и дополняющее воображение и догадливость находят широчайший простор. Соответственно, литература по доплатонической философии гораздо обширнее, чем можно было бы ожидать по сравнению с ее значением в более поздние периоды.
Однако реконструкция сопряжена не только с внешними, но и с внутренними трудностями. Если отбросить тенденциозно окрашенные рассказы поздних авторов и ограничиться действительно достоверными сообщениями людей, более близких к тому времени, то имеющийся материал сокращается до такой степени, что мы смогли бы извлечь из него очень мало, даже если бы были хорошо знакомы с общим мировоззрением тех веков и образом мышления тех исследователей.
На самом деле, однако, нам чрезвычайно трудно вернуться к тому, как доплатонические философы подходили к миру и жизни, потому что мы должны отбросить все, что относится к нашим самым обычным базовым взглядам, и потому что мы никогда не уверены, не является ли то немногое, что мы тогда сохранили, все еще чем-то совершенно чуждым тому времени. Мы должны были бы снова стать детьми, чтобы полностью понять их, детьми, не тронутыми учениями взрослых; мы должны были бы научиться смотреть на природу глазами древних эллинов и погрузиться в основные мифологические воззрения того времени, которые лишь отчасти знакомы нам как предмет поэзии, но совсем не как содержание веры. Все это представляло бы величайший интерес с культурно-исторической точки зрения, но история метафизики выиграла бы от этого лишь несоизмеримо меньше. С философской точки зрения достаточно лишь беглого введения, в котором рассматриваются заикающийся лепет и борьба доплатонических попыток построения систем, – этого достаточно, чтобы открыть для понимания исходные пункты платоновской мысли.
Фалес Милетский (родился около 640 года) упоминается первым во всех различных списках семи мудрецов, и поэтому можно предположить, что именно с него начались попытки греческого разума извлечь натурфилософское ядро из мифологической оболочки космогонии. Он стремился определить то, что сохраняется в изменении мирового процесса, субстрат космогонических изменений, короче говоря, первоматерию или основную субстанцию мира, и нашел ее в воде, или первозданной влаге, в океане, на котором плавает земной диск. Следует думать о продолжении земного океана в небесном, о тождестве мирового океана с морем облаков или морем воздуха (гомеровским Океаносом и гесиодовским Ураносом). Это та же самая доктрина, которая была выдвинута жречеством египетского Неита, независимо от того, заимствовал ли ее Фалес оттуда или создал сам. С этой точки зрения о различии между первозданной субстанцией и первозданной силой можно говорить так же мало, как между physis и psyche, мировой субстанцией и мировым духом. Все полно богов, все одушевлено, не только растения, но и магнит, который притягивает в своем натертом состоянии. Именно безразличие таких противоположностей является естественной отправной точкой, на которую эллинский ум опирается даже гораздо позже, в стоицизме, хотя дуализм к тому времени уже был установлен и систематически реализован философами первого ранга. Поэтому было бы совершенно ошибочно считать Фалеса материалистом; его даже не следует называть гилозоистом, поскольку божественность его принципа означает нечто большее, чем одушевленность или оживленность.
Анаксимандр (611/10 – вскоре после 547/6) ищет первичную субстанцию мира в гесиодовском Хаосе, как еще абсолютно бесформенном и потому неопределенном или неограниченном (???????, ????????), которое противопоставляется формованному (???????????????). Соответственно, он отказывается от дальнейшего определения элементарной природы первоматерии, именно потому, что она не должна иметь таковой, но определяет ее как неоформленную, нетленную и находящуюся в вечном движении. Из этой лишенной свойств субстанции выделились все противоположные свойства, прежде всего теплое и холодное; из обоих этих свойств возникла влага (с которой Фалес и начинает), и только от влаги отделились земля, воздух и огненный круг (т. е. фон звездного неба). Из кварианского движения неограниченного следует чередование сотворения и распада мира и бесконечный ряд сменяющих друг друга мировых образований.
Анаксимен (род. около 588—524 гг.) ищет вечно движущееся неограниченное Анаксимандра в мировом воздухе, который способен к разрежению и конденсации, или расширению и сжатию, и в первом случае становится огнем через нагревание, а во втором – ветром, облаками, водой, землей и звездами через охлаждение. В дыхании воздух предстает как животворящая душа, в дуновении ветра – как мировой дух (??????). В третьей четверти V века последователь Анаксимена Диоген Аполлонийский утверждает этот натуралистический монизм в противовес дуализму Анаксагора, с одной стороны, определенно описывая мировой воздух как физическую первоматерию (????), а с другой – утверждая, что воздух не может быть понят без имманентного ???? или ума, который для него совпадает с жизненной силой и ощущением. Только здесь наивный индифферентистский монизм превращается в гилозоистический материализм.
Все эти натурфилософы по сути своей остаются физиками, хотя различие между физикой и метафизикой все еще остается вне сферы их зрения, и они пытаются постичь метафизическую сущность мира с помощью физических определений. Фалес и Анаксимен в конечном счете служат лишь строительными блоками для четырех элементов Эмпедокла; Анаксимандр же с его противопоставлением беспредельного и сформированного представляет одну из сторон основ платоновского дуализма и поэтому должен казаться нам более важным, чем его товарищи. Однако то, в чем Анаксимандр искал действительное бытие, у Платона становится небытием; у Анаксимандра основной идеей является устойчивая субстанция, к которой в качестве атрибута прилагается только неопределенность, но у Платона понятие неограниченного становится субстанцией, причем в его работе нет ни одного упоминания о физической субстанции, и только Аристотель снова меняет это отношение, возвращаясь, так сказать, к Анаксимандру через Платона. Только теперь мы приходим к собственно метафизикам, которые надеются получить более глубокое понимание мира не из чувственного восприятия данных природных элементов, а из категориальных понятий.
Переход оформляется Пифагором, который стремится конструировать мир уже не из чувственно-природных, а из понятийных, но еще не из чисто метафизических, а из математических, конкретно арифметических, определений, но для которого математические определения уже превращаются в метафизические.
Пифагор (ок. 580—500) глубоко изучал математику и предстал перед магией чисел и их таинственным влиянием на мир с безмерным изумлением первооткрывателя. То, что музыкальные созвучия и гармонии основаны на соотношениях длин струн, что расположение и орбиты звезд определяются мерой и числом, что для определения (прямой) линии требуется двузначное число точек, для определения (плоской) поверхности – трехзначное число, для определения тела – четырехзначное число, – все это казалось в то время глубоким проникновением в сокровенную суть мира. Музыкальная «гармония», которая в то время еще понималась как шкала октав, предстала как микрокосмический контробраз астрономического устройства макрокосма, то есть относительных расстояний его небесных сфер (гармония сфер). Совершенным числом является число четыре, поскольку это число трехмерной или совершенной пространственности и поскольку соотношения 1: 2: 3: 4 включают интервалы октавы, пятой и четвертой (пятая не встречается в античной тональной системе, поскольку интервал мажорной терции определяется пятыми). Сумма первых четырех чисел равна десяти, которая, таким образом, символизирует вселенную или мир. Сфера неподвижных звезд и семь планетарных сфер (включая Солнце и Луну) дополняются до 10 Землей и контрземлей, вращающимися вокруг центрального огня. Отсюда мы перешли к совершенно непонятному для нас символизму чисел, крайне произвольному, частично колеблющемуся, частично условно фиксированному.
Мы уже не можем определить, насколько сильно согрешил при этом сам Пифагор. Но то, что сам Пифагор путал расположение чисел с существованием чисел и подчинял содержательный смысл их формальному значению, можно считать несомненным, так что он действительно считал идеальные числа (от 1 до 10) основными субстанциями или конститутивными принципами Вселенной. Аналогичным образом Пифагор сам играл в любопытную игру с противопоставлением степеней и не степеней в числах. Делимость или неделимость на два, полная отмена деления или остаток, казалось ему, разделяли первичные принципы на два враждебных лагеря; как вещи состоят из чисел, так и числа теперь, казалось, состоят из степеней и не степеней. Физически
Противопоставление неградуированных степеней ийидов подобно противопоставлению огня и земли, в то время как вода, содержащая и то и другое, представляет собой первую неградуированную степень. Поскольку остаток, остающийся после деления на два, устанавливает предел делимости на два, а степень не имеет такого предела деления на два, то степень без степени описывается как ограничивающая, а степень – как неограниченная, Противопоставление ограниченного и неограниченного заменяется противопоставлением неограниченного и градуированного Противопоставление неограниченного и ограниченного теперь может быть истолковано гораздо шире, чем противопоставление градуированного и неградуированного, ибо оно сразу же переходит в противопоставление пустой неопределенной пространственности или неопределенной, но определяемой газообразной жидкости и того, что определяет ее мерой и формой. Затем пифагорейская школа реализовала эти две основные противоположности в восьми дальнейших вариациях, так что число десять (или основное число идеальных чисел) становится полным.
Ограничивающий элемент приобретает значение самодостаточности или завершенности. Так же как в сфере чисел это должно быть представлено неградусом, так и в сфере пространства – прямой линией, плоскостью и прямой, в сфере фигур – равносторонним или правильным (квадратом), в сфере механики – покоем, в сфере природы – светлым и мужским, в сфере морали – добром. Самое совершенное из всех чисел – единица или единство (?? или ?????); это число par excellence, потому что, будучи первоначалом или принципом, или порождающим отцом всех чисел, оно неявно содержит их все. Если сложить соответствующие противоположности, то получатся следующие десять пар:
1. ограничивающий и неограниченный.
2. неградуированное и градуированное.
3. один и много (или неопределенная двойственность).
4. правое и левое.
5. мужское и женское.
6. покоящееся и движущееся.
7. прямое (плоскость) и кривое.
8. свет и тьма.
9. добро и зло.
10. квадрат и продолговатый прямоугольник.
Это хаотическое нагромождение физических, этических, антропологических, математических, механических и метафизических понятий вряд ли можно назвать таблицей категорий; тем не менее для Платона и Аристотеля она стала новаторской в плане установления категорий. Платон не только записал из этой таблицы противоположности единого и многого, покоя и движения, добра и зла, но и противоположности беспредельного и предельного, которые в его системе вообще не имеют никакого значения, и противоположности неограниченного и предельного, которые под влиянием Анаксимандра, Демокрита и Анаксагора приобрели совершенно иной смысл. Аристотель вряд ли придал бы такое значение числу десять в своей полной таблице категорий, если бы это число не было освящено пифагорейской таблицей.
Кстати, эти противоположности не являются для Пифагора последним и высшим делом; гармония стоит над ними, преодолевая их объединяющим образом. Математическое выражение этого поставления единства перед противоположностями Пифагор ищет в Едином, но не во вторичном Едином, которое как противоположность множества или неопределенной двойственности само является лишь членом противоположности, а в первичном Едином, которое еще не вошло в арифмогонический процесс и потому стоит над противоположностями Единого и Разности, Неделимого и Степени, Это Единое или это Единое как первопринцип, который сначала разворачивает мир чистых чисел, через них – «геометрические числа» или простейшие пространственные образования, а через них – весь остальной мир, продвигаясь от низшего к высшему, занимает место Божества, энергией которого является мир. Это обозначение монистического первопринципа в соответствии с его формальной природой как Единого перешло от Пифагора к элеатам и Платону, а от последнего – к неоплатонизму. Пифагорейское презрение к множественности в виде демократической массы также обусловлено доминирующим положением Единого.
Если число, или гармония, приравненная к определению числа, является сущностью всего, то неудивительно, что она также составляет сущность души или принципа жизни. Душа – это гармония тела, которая, как и гармония мира, есть число десять; благодаря этой аналогии со вселенной она способна познать ее, ибо знание доходит лишь до математической определимости, то есть до числа, недоступного трюге. Полное господство меры над неограниченным (чувственным) в душе есть ее здоровье; равное количество (квадратное число) в душе есть (воздаяние) справедливость. Из орфических мистерий Диониса Пифагор перенял учение о переселении душ и повторении одних и тех же мировых процессов через большие промежутки времени. Мировая душа – это гармония, пронизывающая мир из центрального огня; центральный огонь, однако, находится под землей, между землей и противоположной землей в центре Вселенной, которая относится к нему, как единое относится ко многим. Таким образом, импульс к движению и порядку исходит из центра, а не с периферии, что прямо противоположно Аристотелю. Кстати, сомнительно, что эта доктрина о мире-душе была действительно выдвинута доплатоническими пифагорейцами. Согласно пифагорейцу Филолаю, современнику Сократа, тетраэдр является основной формой огня, куб – земли, октаэдр – воздуха, икосаэдр – воды, додекаэдр – всеохватывающего эфира. Этой гипотезы в основном придерживался Платон.
Элеатская школа восприняла пифагорейский принцип Единого, из которого все разворачивается; Ксенофан подчеркивал понятие Единого и его теологическое значение в монотеистическом смысле, Парменид – понятие бытия и его метафизическое значение в абстрактно-монистическом смысле. Мелисс защищает эту точку зрения против старых натурфилософов, не без того, чтобы не свести ее к натурализму, который был преодолен; Зенон защищает ее диалектически против передовых точек зрения, которые принимают реальность множественности и становления в соответствии со здравым смыслом.
Ксенофан (ок. -484/80) обязан своим важным положением смелой
Своим важным положением он обязан смелой критике эллинского политеизма, его антропоморфных и антропопатических фигур богов и морально предосудительных и даже недостойных бога мифов. В противовес этому он провозглашает, что есть только один Бог, «не сравнимый со смертными ни по форме, ни по мысли», который «все око, все ухо, все мысль» «без усилий» управляет всем своим мышлением, который вневременно вечен и свободен от неопределенности, а также множественности и изменений. Разумеется, о выделении этого божественного Единого или Бога из мира не может быть и речи; по отношению к вселенной он называет это Единое и Целое Богом. Поэтому он учит не теизму и не пантеизму, а теопантизму. Точно так же Единое все еще полностью колеблется между метафизическим и физическим значениями (Бог и шар); даже у его преемников эти два значения еще не резко разделены, хотя метафизическое преобладает у Парменида, а физическое – у Мелиссоса. Согласно Ксенофану, мир нетленен и вечен, поскольку совпадает с нетленным и вечным Богом; тот факт, что в мире происходят изменения (в том числе космогонического характера), но Бог предполагается неизменным, еще не признается.
Парменид, чей расцвет приходится на конец VI века, ставит во главу угла оппозицию бытия и небытия; первое – единое, вечно, неподвижно, несотворенно и неразрушимо, второе придает ложную видимость множественности, времени, движения, становления и прехождения. Таким образом, Парменид определяет бытие через две пифагорейские категории – единое и неподвижное; в пространственном плане, ради совершенства, он представляет его как сферическую форму, ограниченную в себе и имеющую все одинаковые размеры. Только существующее есть и мыслится, несуществующее не мыслится и ни в коем случае не может быть мыслимо. Существующее должно стать несуществующим, потому что оно не может стать ни из себя, ни из несуществующего. Кроме того, существующее неделимо (не делится ни на себя, ни на свою противоположность), равно самому себе, единство физического и духовного, бытия и мышления. Несуществующее – это нереальное и немыслимое, никак не существующее; видимость множественности возникает из-за того, что несуществующее принимается за некое существо, и вещи представляются как композиции существующего и несуществующего. Как может возникнуть такая обманчивая видимость бытия – это, конечно, противоречие, которое Парменид так же не в состоянии объяснить, как и другой абстрактный монист; все попытки объяснить его всегда предполагают то, что должно быть объяснено, а именно второе бытие в едином или рядом с ним, и отступают перед тем, что отрицается, а именно множественностью в едином или вне его. Попытки объяснения Парменида носят не метафизический, а физический характер, предполагая тем самым природу в Боге, возникновение которого из Бога они хотели объяснить. С этой точки зрения берется восьмая пифагорейская антитеза, свет и тьма, и в ней символизируется антитеза бытия и небытия в физической сфере.
Кроме того, той же цели служат противоположности теплого и холодного, тонкого (эфирного, огненного) и плотного или тяжелого (земного), с помощью которых он стремится приблизиться к противопоставлению духовного и материального.
Главный интерес Парменида, как и всех элеатов, сосредоточен на двух категориях – бытия и единого, которые почти сливаются в одну, и на более тесном определении неизменного самоподобия или неподвижного покоя этого единого.
Будучи на двадцать пять лет моложе Парменида, Зенон предпочитает заниматься косвенными доказательствами этого абстрактного монизма, который, как показывает стрелка, покоящаяся в каждом мгновении, он берет из антиномизма дискретного и непрерывного, не достигая, однако, ясности в этой концептуальной оппозиции. Его аргументы против множественности и становления – весьма прозрачные софизмы, как и последний, направленный против движения, который заимствован из относительности движения двух тел относительно друг друга. Софизм в первых двух доказательствах против движения не так легко заметить; он состоит в том, что он делает бесконечно продолжительное деление пути и времени, необходимого для его прохождения, и ожидает, что мы будем считать сумму бесконечно многих периодов времени бесконечно большой только потому, что их бесконечно много. Таким образом, он приходит к утверждению, что для преодоления конечного расстояния потребуется бесконечно большое время; но он забывает, что сумма бесконечного числа бесконечно малых периодов времени дает конечное количество так же, как сумма бесконечного числа бесконечно малых расстояний дает конечное расстояние. Он опирается на тот факт, что мы имеем в виду только конечный размер бесконечной суммы для пути, но не имеем в виду такую же конечность суммы времени или не будем иметь ее в виду. Поскольку нам требуется конечное время даже для того, чтобы продумать каждый отрезок пути, то, конечно, для того, чтобы покрыть конечное расстояние бесконечным числом отрезков, нашему мышлению потребуется бесконечное время; Как только мы забываем, что реальное движение требует лишь бесконечно малых частей времени для преодоления бесконечно малых расстояний, бесконечная сумма бесконечно многих конечных частей времени подменяется конечной суммой бесконечно многих, но в конечном счете также бесконечно малых частей времени реального движения и создает ложную видимость того, что оно не может достичь своей цели.
Но и в этих доказательствах подлинный смысл мышления Зенона остается затуманенным тем, что вместо абсолютно дискретного подставляется псевдодискретное, полученное путем бесконечного деления, бесконечно малое, но само по себе непрерывное. Этот способ мышления проявляется в полной чистоте только в третьем аргументе против движения, согласно которому летящая стрела покоится в каждой точке своего пути, то есть покоится на протяжении всего пути. Здесь обнаруживается ложная предпосылка, что непрерывное состоит из дискретного и поэтому также должно быть реконструировано из дискретного в мышлении, но что непрерывное не может существовать, если мышление не может реконструировать его из дискретного. Непрерывный путь стрелы не может быть составлен из дискретных, нерастяжимых точек пространства, время ее полета не может быть составлено из дискретных, непрерывных точек времени; из этого Зенон делает вывод о невозможности движения, вместо того чтобы спросить себя, не направлены ли его попытки составить непрерывное из дискретного на решение ложной проблемы и не основаны ли они на непонимании противоположности дискретного и непрерывного.
Мелиссос, разгромивший афинский флот в 442 году в качестве науарха саамов, отказался от пространственной ограниченности единого бытия и заменил ее бесконечностью. Он борется с пустым пространством и использует его невозможность для борьбы с разбавлением или сгущением существующей субстанции. Невозможность движения также вытекает из отсутствия пустого пространства, если исключить сгущение и разрежение вещества, заполняющего все пространство. Наконец, из этого вытекает невозможность разделения и смешивания вещества. При таком отрицании любых физических изменений не остается ничего другого, как объяснить видимость изменений субъективным обманом чувств.
Гераклит (около 500 г.) работает рядом с Парменидом, возможно, даже раньше него. В противоположность бытию он возводит становление и инаковость в первичную категорию в том смысле, что это относится к постоянному возникновению и исчезновению всего существующего, в котором ничто не сохраняется, кроме изменений, ничто не остается, кроме потока событий, ничто не неизменно, кроме вечного превращения, изменения и движения всех вещей. Она не знает иного бытия, кроме изменчивого мира чувств, в котором элеаты находят именно небытие. По этой причине множественность, которую элеаты могли вывести только из ложной видимости небытия и его смешения с бытием, возвращается у Гераклита в права реальной метафизической категории, как и движение по отношению к покою, а покоящееся единство сводится к вечному принципу течения и превращения, движущей силе процесса. Эту движущую силу процесса он находит символизированной в неустанно движущемся, всеплавящемся, то образном, то всепожирающем огне, который в то же время оказывается принципом жизни или души. Этот бесплотный первозданный огонь, конечно, не следует путать с земным огнем, но это принцип тепла или свирепости; это иное определение неограниченного Анаксимандра, чем то, которое дал Анаксимен, но, тем не менее, предполагается, что оно по сути идентично бесплотному первозданному воздуху последнего. С точки зрения становления противоположности, постоянно сливающиеся друг с другом, приобретают повышенное значение; каждая вещь есть или существует только как мгновенная точка пересечения противоположных течений природной жизни, и как всегда только становящаяся, никогда не существующая, она представляет собой реальное единство бытия и небытия. Закон противоположности и ее объединения становится господствующим законом мира, и реальность становления состоит в конфликте (???????), в стремлении друг к другу и поддержке друг друга, во встрече противоположных напряжений. Таким образом, Единый Принцип также порождает все из себя, и вся множественность постоянно возвращается к Единому как к своей гармонии, как у Пифагора. Один – это путь вниз (огонь, вода, земля), другой – путь вверх (земля, вода, огонь), и оба они едины. Поэтому неудивительно, что, подобно Анаксимандру, Анаксимену и Пифагору, он предполагал постоянное чередование возникновения и распада мира, только для него возникновение предстает как образное, распад – как поглощающее действие первородного огня, а в мировых интервалах вся множественность сводится на нет единством первородного огня. Точка зрения Гераклита – монизм, несмотря на признание реальной множественности, поскольку принцип неограниченной изменчивости обладает всеобщей истиной и реальностью, выходящей за пределы эмпирической реальности отдельного человека. Более того, это безразличие метафизического и натуралистического монизма, поскольку метафизический принцип его реальной диалектики предстает, с одной стороны, натуралистически как первородный огонь, то есть как неограниченная материальная жидкость тончайшего рода, а с другой – спиритуалистически как всезнающее и направляющее божество. Таким образом, точка зрения Гераклита представляется философским исследованием жреческих мистерий, которые культивировались в культе Ра или Гефеста, подобно тому, как Фалес относился к культу Неита. Гераклит развивал свою доктрину не в противовес элеатам, а независимо от них, возможно, даже раньше Парменида, так что намерение связать принципы бытия и небытия в гегелевском смысле со становлением не может быть ему приписано.
Эмпедокл (ок. 495—435) вместе с Парменидом утверждает бессмертие, нетленность и неизменность бытия, а вместе с Гераклитом – реальность множественности и процесса.



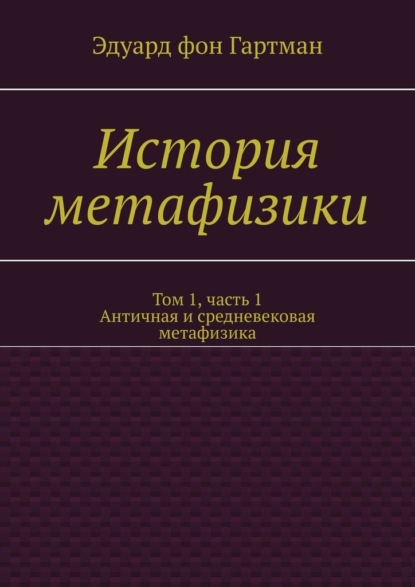




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0