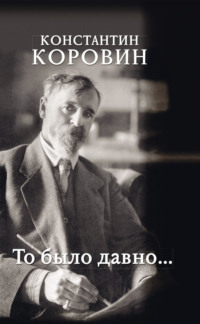
То было давно…
– А что же было потом? – спросили мои приятели.
– Чего ж, сидел долго. На суде доказали, что всё, что ни на есть он от весов тех награбил, – всё дочиста отдал на богоугодные заведения. Сиротам, вдовам, на больницы… Даже за это самое и медали, на шею жалованные, в праздник носил. В пример прочим.
– Где же он теперь? – спросил доктор Иван Иванович.
– Где? Тута, в Петрове. И заметьте, никто на это самое – на больницы, вдовам, сиротам – никто более ничего не дает. А он-то и говорит: «Вот что я брал с их, жулил и отдавал, а тово теперь-то и нету».
– Вот что об этом скажешь? – спросил доктор Иван Иванович.
Все молчали.
– У нас, – сказал доктор, – в Москве, глазная больница, новая, для бедных и для всех. Такую больницу и за границей поискать. Так вот что. Московский городской голова Алексеев, сажень ростом, толстый, умный человек, сколько добра внес. Широкий человек. Он больницу строил. Денег надо много. Приехал он к старику Солодовникову, миллионщику, а тот скуп – штаны носит, так внутри подкладку клеем смазал, чтоб не изнашивались. Ну, приехал к нему городской голова. «Денег дай на больницу. Надо, – говорит, – для Москвы. Обращаюсь к вам как к человеку и христианину». А тот ему: «Горд ты больно, христианином пугаешь, городской голова. Поклонись в ноги – дам». Алексеев ему и бух в ноги, к самым сапогам, да и заплакал. Солодовников удивился да полмиллиона и подписал.
Уехал от него Алексеев и думает: «Вот ведь что надо». Заехал к Попову на Никольскую – чайная торговля, – прямо в контору. Вошел да прямо Попову в ноги – бух, на больницу дай. Тот удивился: что такое – сам городской голова в ногах валяется?.. Сто тысяч подписал.
Было это в старину в Греции, кажется, сам Сократ тирану сиракузскому Дионисию в ноги пал, за друга-философа просил. Осудили его за это друзья его, а он говорит: «Я не виноват, что у него уши в ногах…» Заехал голова Алексеев и к Морозову, и к Найденову, в одну контору, в другую, и везде в ноги валится. Приехал домой к обеду, щетку в передней взял – колени чуть не час чистил. А больницу все-таки построил, да клиники, да еще детскую больницу. Вот ведь как. Боялись его. Богатый-то думает, когда говорит с ним, как бы леший-то этот в ноги не упал…
К вечеру привезли пасху: святили пасху и куличи.
– Ну и дорога, – сказал Феоктист. – Из колеи в колею. Ну и лужи… Колеса покрывают. На Некрасихе думал – пропаду. Вся телега ушла, пасху на голове держал. Уток что́ летает!
– Пойдемте, – сказал Караулов, – постреляем.
– Ну нет, неловко что-то в канун такого дня.
В саду, к вечеру, заливались пением птицы. Высоко в небесах треугольником, освещенные солнцем, летели журавли.
Таинственна и чудна была природа. Пленяла душу весна. Я хотел сорвать ландыш – и вдруг мне стало жалко ландыша. Пускай живет…
Пасхальная ночь была светлая. С одной стороны, как зубчатый гребень, темнел Фёклин бор. Торжественно и задумчиво фонарем от дома освещались лица моих приятелей.
Вошли в дом. Пасхальный стол был накрыт. В стеклянных банках стояли желтые купавки, которые набрали на мокром лугу реки. Волшебным запахом наполнилась комната.
Приятели сидели за столом молча. Вдалеке, за лесами, послышался благовест…
– Это на Вепре, у Спаса, – сказал Феоктист.
Мы отворили окно и слушали. Несказанное очарование было в весенней ночи! Высоко в небесах слышался шум тысяч летящих птиц.
Россия, как торжественна и свята была в просторах твоих пасхальная ночь!..
На рыбной ловле
Весной, в мае, я никак не мог оставаться в городе. Как-то хотелось забыть Москву, работу, театр, всё и вся. Уехать туда, в лес, на берег речки, в глухие места. Там поет неизъяснимой красоты весна, утро майское, в розовой заре, зелеными брызгами покрыты оживленные леса. Там всё забудешь – и горькую неправду, и обманчивую любовь… И вновь охватит душу радость, очарование природы, и родятся слезы, слезы радости и восхищения.
Я вижу перед собой весенний лес. Он поднимается в гору, еще сквозной, розовый. Кое-где темными пятнами – зеленые ели. Берег реки. На поверхности зеркальной воды всплескивает рыба, колеблется отраженный лес. Никого кругом, глухо… Деревня далеко.
– Вот место-то хорошо, – говорит приятель мой и слуга, рыболов Василий Княжев.
– Замечательное, – соглашаюсь я. – Давайте станем тут.
– Хорошо днем здесь, да-с… – говорит другой мой приятель, Василий Сергеевич, – только ночью жутковато будет, пожалуй. Лучше бы поближе к мельнице. В этом лесище не без волков…
– Волки здесь есть, – подтверждает возчик Павел. – Да ведь чего, ведь они к вам в палатку не залезут.
Останавливаемся, снимаем с подвод мешки, где спрятана палатка, снимаем лодку с телеги, самовар, корзинки, ящик с красками, холсты для живописи. Всё это кладем у реки, где кусты, зеленая травка, мелкие камешки, песок, мох, какие-то розовые цветочки у кустов. Собаки мои, Феб и Польтрон, рады; они понимают, что это настоящая жизнь. Ставим палатку, в ней – складной стол, ставим около табуретки. Василий Сергеевич развертывает складные удочки, соединяет их и кладет на берегу каждую отдельно, а сам почему-то трясет головой, будто мух отгоняет. Я раскладываю мольберт, вынимаю холсты из ящика и спрашиваю его:
– Что это ты, Вася, скучный такой, головой все трясешь?
– Да, знаете, трясу головой потому, что у меня Сонька из головы не выходит…
– Да что ты, брось…
– Вот в том-то и дело… Вот приехал сюда, хорошо ведь тут, всю зиму ждали, чтоб вырваться на природу весной… А что она со мной делает, всю жизнь мучает… Характер такой! Вот вырвался от нее. А она со мной и сюда приехала – сидит в голове, не выбросишь!
– Да брось… посмотри, река какая… Сейчас чай будем пить, самовар ставят… Слышишь, как дымком пахнет? Ведь это на шишках еловых самовар ставят, – подбадривает его Василий.
– Вот в том-то и дело, что она меня так расстроила, что я ничего и не чувствую. Здесь вот, в сердце – без радости я. Я был у Корзинкиных – он тоже на дачу собирается. Приехал я к ним с женой, а там именины: жена Корзинкина – именинница. Приехал я с Софьей поздно, все уж пьяны. Шум… Крики… Скандал… Кто-то именинницу Корзинкину, Веру Петровну, оскорбил… А Софья мне показывает на одного гостя и говорит:
– Это вот тот ее оскорбил.
Я смотрю – а тот здоровый такой, рыжий, морда у него противная такая.
А Софья не отстает.
– Ты, – говорит, – Вася, должен заступиться за честь женщины…
Я и подошел к нему.
– Позвольте, – говорю, – какое вы имеете право оскорблять женщину, да еще именинницу?
А он мне:
– Ступай к черту! Рыцарь енотовый!..
Я не стерпел, да и дал ему в морду. Что было – ужас! Он, брат, мне сдачи. В драку лезет со мною. Хозяин плачет, с Верой Петровной истерика. Оказывается, Софья напутала: этот рыжий-то дядей им приходится, и он совсем ни при чем… Да самолюбивый черт – так обиделся, ужас! Я прощенья просить, а он – нет! «Я его, – говорит, – посажу!» А Софья-то едет со мной от них на извозчике и всё время хохочет… Наконец спрашиваю ее категорически:
– Чему ты рада?
А она еще больше хохочет.
Мне ведь две недели сидеть придется. А ей хоть бы что! Черт меня с этой актеркой спутал!
Самовар готов. На столе – скатерть, стаканы, сардинки, балык, колбаса, бутылка красного вина, коньяк – всё блестит радостью весеннего солнца. Все сидят, пьют чай, закусывают. Василий Княжев пьет из стакана стоя, пьет, смотрит на реку и говорит:
– И рыбы тут что́… их! Вона, к лесу, у заводины, там ямы глубокие, сомы живут там.
– Надо живцов ловить, – говорит Василий Сергеевич, озабоченно потряхивая головой.
– Вася, – говорю я ему, – как же это ты всё же зря в морду-то дал незнакомому человеку?..
– Вот в том-то и дело! – соглашается он. – «Честь женщины, честь женщины», – все говорят. Ну и Софья тоже. Всякий ахнет! Вот я страдаю, поймите, а ей всё равно. Хохочет – смешного мало тут.
Он подошел к столу, налил рюмку коньяку, с досадой опрокинул в рот и вновь сказал Василию Княжеву:
– Надо живцов ловить.
На берегу лежат удочки, заброшенные в реку. Они далеко выдвинулись над водой своими тонкими концами. Дальше на тихой воде стоят поплавки цветные – красные, белые, желтые, поставленные на разную рыбу. Василий Сергеевич, сидя на корточках, внимательно смотрит на поплавки и говорит:
– Берет… а что – не поймешь. Положит поплавок, потом бросит. Не ведет…
Вдруг он дергает удилище и кричит: «Подсачек, подсачек!» Большая рыба гнет удилище и тянет в глубину, ведет вбок, задевая другие удочки, всплескивает у берега. Василий Княжев, войдя в воду, подсачком подхватывает большую рыбу – голавль. Большой голавль лежит на берегу в подсачке на зеленой траве, красивый, серебряный, с черным хвостом и ярко-красными плавниками.
– Э-э, голавль… – говорит Феоктист, – это не рыба, скусу нет в ём. И костяст.
– Нет, уж это позвольте, – протестует Василий Сергеевич, – его сейчас жарить нужно, тогда узнаете, какая это рыба!..
– Лещ лучше, – говорю я. – Верно – костляв голавль.
– Правильно, – подтверждает Василий Княжев, – красива рыба, а есть – подавишься… И дохтура здесь нет. Подавишься – помрешь.
Василий Сергеевич берет голавля и пускает его у бережка в воду. Голавль опрометью уходит под воду и пропадает в реке…
Попала на живца щука большая, спутала все удочки. Василий Сергеевич упал в кустах, запутался, так она вела вбок по реке.
– Щука в полпуда… – говорили все.
Вытащив ее на берег, Василий Сергеевич новым охотничьим ножом отрезал ей голову прочь, говоря: «Не будешь, голубушка, больше рыбу жрать, будя…»
К вечеру наловили всякой рыбы – лещей, язей, окуней – и варили уху, разведя костер. Небо было зеленое, солнце село за лесом, острым серпом показался вдали месяц.
Поевши ухи, Василий Сергеевич вдруг тряхнул головой и сказал, засмеявшись:
– А знаете что, пошлю-ка я всё к черту и здесь, на реке, жить буду, на мельнице… Всё лето проживу, до осени. Пускай меня Софья поищет… да-с! довольно шуток. Тоже не очень интересно, если этот дядя рыжий меня к мировому потянет…
Тихий был вечер. Лес весь был полон пения птиц, и трещал соловей в кустах соседнего берега, у самой воды. Задумывалась душа. Вдруг послышалось вдали: «Ау-у-у… ау…» Кто-то аукался.
– Ау! – крикнул Василий Княжев.
– Зачем ты отзываешься? – рассердился Василий Сергеевич. – Еще кто-нибудь прилезет к нам…
– Кто знает, может, кто заплутался, – ответил Василий.
– Ау! – закричал и я.
Через немного времени слышим в тишине вечера скрип телеги – у берега реки кто-то ехал.
– Это к нам едут, – сказал возчик Павел.
Вскоре среди кустов леса, у елок, показалась лошадь, телега, в ней – женщина в шляпке, со спущенной вуалью, и здоровый рыжий человек в котелке.
Василий Сергеевич насторожился и глядел, открыв в удивленье рот.
– Вот они где!.. – крикнул рыжий человек, смеясь. – Берет ли рыба-то?
Василий Сергеевич растерянно смотрел то на жену, то на рыжего человека.
Тот вылез из телеги, подошел к нам и весело сказал:
– Я ведь сам рыбак, вся моя жизнь в этом… Приехал с ей к убивцу моему, потому – что делать? – герой он, за честь женскую сильно стоит. Только не туды попал, не в те ворота…
– Здрасте, – подходя, сказал он мне. – Позвольте познакомиться. Я донные удочки взял, сейчас налим идет. Я и наживу привез. Эх, хорошо на свете жить!.. Соня, где у нас корзинка, захватили мы шипучку. Хорошо ночью эдакое… за ловлей бокальчик-другой «Вдовы Клико», в уважение жизни прекрасной и за Софью Григорьевну, пропустить…
На реке
До чего хорошо в деревне! Конец мая, и уж летняя жара. Сад и всё кругом в свежей зелени. За рекой, в Фёклином бору, кукует кукушка. Приятели мои, приехавшие погостить, ушли купаться. Внизу, за моим садом, речка Нерль; там тихо на бережку, на зеленой траве, где ольховые деревья, там прозрачная вода. В ней отражаются и лес, и небо, желтые купавки точно горят на реке. Как пахнет травой, водой, летом!..
Сижу я на ступеньках крыльца моего деревенского дома и мо́ю в банке запачканные в красках кисти для живописи. За загородкой малиновый сад, пышно зеленый. Звонко и весело щебечут малиновки. Затихает душа…
Кладу кисть на сухую ступеньку крыльца, чтоб сохла. Слышу, вдали на реке кто-то громко кричит: – Вы не имеете права называть меня скелетом!
Что такое? Должно быть, поссорились приятели. Вижу, от реки по тропинке сада бежит ко мне Василий Княжев, мой слуга, друг и рыболов. Быстро подходит ко мне и говорит озабоченно:
– Василь Сергеич приказали веревку достать долгую, потолще: учут плавать Николай Василича. Он плавать не умеет, и тот его обучить хочет.
– Возьми веревку в сарае, поищи, там есть. Да скажи им, чтоб недолго купались, а то завтрак остынет.
– Да кто их знает, они еще не купались, а так только на берегу ругаются. Очень обиделся на Василь Сергеича ученый: он его шкелетом обозвал. Да и верно – тот разделся, так вот худой… прямо чисто шкелет.
«Пойду-ка, – думаю, – посмотрю, как это Василь Сергеич учит плавать». Подхожу, слышу зычный голос Василия Сергеича: «Болтай ногами, болтай, что же ты, дура, ногами не болтаешь?! Ну, сначала!..»
Мне видно с бугорка, как внизу в речке стоит в воде Василий Сергеич, а у другого берега, по колено в воде, Николай Васильевич Курин, обвязанный в груди полотенцем и веревкой. Он испуганно глядит на своего учителя плавания, Василия Сергеевича, а тот кричит: «Ну, сначала… Раз, два, три!» – и тянет веревку. Ученик падает в воду и, скоро барахтаясь, болтая ногами и руками, приближается к учителю и становится в воде около, кашляя и захлебываясь.
В стороне стоит мой новый гость, ученый, и пристально смотрит на урок. Рядом сидит нагишом на травке толстый Юрий Сергеевич и курит.
Увидав меня, Василий Сергеевич орет:
– Это вы думаете, просто, учить плавать?! Нет-с, не просто. Вот шкелет тоже плавать не умеет. – И он показывает на ученого.
– Я еще вам раз категорически заявляю: вы не имеете никакого права называть меня скелетом… – обиженно говорит ученый.
– Сначала! – кричит Василий Сергеевич и, переплыв на ту сторону речки и держа в руке конец веревки, опять быстро тянет привязанного к ней несчастного ученика, который барахтается и испуганно кричит:
– Ну, постой, брат, довольно… постой.
– Нет, погоди!.. – не сдается Василий Сергеевич. – Сам просил: выучи! Ты уж хорошо махаешь руками, постой!
Я говорю Юрию Сергеевичу, который сидит на травке, как Будда, и покуривает:
– Что же это делается? Посмотри на Колю; он же дрожит как осиновый лист.
– Я и сам вижу, что дрожит, – отвечает Юрий. – А интересная, брат, штука!.. Трудно, должно быть, выучить плавать. Что-то в этих уроках собачье есть. По-моему, его надо за ногу привязать и тянуть.
Покуда мы разговаривали, приятель мой, Николай Васильевич, быстро развязав веревку и схватив рубашку с травы, пустился голый бежать кверху, по дорожке на бугор.
– Вот видите, какая скотина, – обиделся Василий Сергеевич, – сам ведь просил: «Выучи, выучи…» А если бы его еще раз десяток протащил по реке, так он бы уж плавал. Я ведь не зря говорю: знаю.
– Ну, довольно, вылезай, Вася, – прошу я. – Пора завтракать, пойдем домой.
Василий Сергеевич вылез из воды, вытерся полотенцем, стал одеваться, и лицо у него было такое серьезное, будто у настоящего спортсмена.
Когда мы пришли домой, его ученик, Николай Васильевич, сидел на кухне у плиты в пальто и в калошах, а стряпуха – тетушка Афросинья – жалостно говорила:
– Их, сердешный, Миколай-то Василич, топ на реке… Пришел в чем мать родила, посинел весь.
А за завтраком Николай Васильевич сказал:
– Вася, может быть, ты и хорошо учишь плавать, только, брат, у меня ноги и сейчас дрожат…
– Это так и должно быть, – заявил серьезно его учитель. – Вы знаете, в Англии, скажем… Там каждый должен уметь плавать. Вот вы, положим, профессор, – он обратился к моему знакомому ученому, – а если плавать не умеете, всё к черту, с кафедры долой… Плавать необходимо всем. А то с вами никто разговаривать не будет… У нас тоже пловцы есть. Мой знакомый фабрикант – фабрика бумажная по берегу Волги, его Володей зовут, – эх, здоров! Вот он дернет утром коньяку на берегу, наберет в грудь воздуху и прямо в Волгу. По дну переходит на ту сторону, не вздохнув. Выйдет на берег, дернет опять коньяку, наберет воздуху в грудь и назад – домой на фабрику… Таких-то, пожалуй, и в Англии нет… И нигде… А у нас ничего не знают.
На другой день приятели мои опять пошли на реку купаться. Колю опять учили плавать. Опять Василий Княжев прибежал и сказал:
– Чудно́… А ведь Николая Василича выучили… Сам теперь через реку перебарахтывается, без веревки… Видать, что выучили. А теперь велели у вас спросить, чтоб коньяку дали. Значит, теперь учить будут нырять.
Василий взял из шкафа бутылку коньяку и убежал на реку. Странно, что мой ученый тоже, несмотря на то что поссорился с Василием Сергеевичем, пошел на реку учиться плавать.
В стороне, с краю сада, за большими елями, сижу я в тени и пишу с натуры красками этюд. Слышу, внизу, на речке, голоса приятелей: «Зажми нос… Раз, два, три – ныряй!»
Тетенька Афросинья идет мимо меня с огорода, несет свежие огурцы и укроп. Качает головой:
– И чего это делается на реке, ужасти… Миколая Василича беспременно утопют… Василий Сергеич карахтерный – всё чтоб по его было. А Миколай-то Василич смирный, где ж ему супротив… Вот Юрь Сергеич – тот не дастся нипочем… Барин с ответом. А етот тоже, учитель – ученый, глядеть жалко. И худ. Верно, што шкелет…
С реки прибегает Василий, говорит, запыхавшись:
– Василь Сергеич велели, чтоб завтрак принесли на реку, и вам велели приходить.
– Ладно, – говорю. – Собирай там в корзинку всё, что Афросинья приготовила. Я приду на реку. Правильно придумали: на речке хорошо посидеть…
– Это верно, – соглашается Василий. – Чего лучше? Эдакой жисти нигде нет, как у вас, ей-ей…
И Василий смеется.
– Ты чему же смеешься? – спрашиваю я.
– Чудно́ больно! Заметьте, ведь это што: плавать обоих выучил – и шкелета… Через глубокую яму переплывает… Только оба оглохли – вода в ухи натекла. Ученый-то слаб, зеленый весь.
– Отчего это?
– Отчего… В господах бывает… От нежности… Через женский пол тоже…
На берегу реки на травке накрыта скатерть, на ней блестят в графинах мятная настойка, березовая, черносмородиновая на почке. Маринованная щука в монастырском рассоле, копченые ельцы, жареные цыплята, грибы сыроежки, молодая картошка, огурчики ранние, редиска, караси в сметане…
Приятели сидят кругом на травке в тени ольховых ветвей. За речкой дремлет на солнце, выступая огромными соснами к самому краю реки, Фёклин бор.
Василий Сергеевич наливает ученику, Коле Курину, стакан мятной, насыпает туда перцу и говорит:
– Пей.
– Довольно… – отказывается тот.
– Чего «довольно», пей… Посмотрите на него – ведь он синий весь.
– Так ведь будешь синий, посинеешь… – отвечает робко Коля. – Но до чего я, брат, рад, что плавать научился… Спасибо тебе, Вася…
На той стороне реки, к бережку, пришел пастух, седой старик, и с ним мальчик-подпасок. Они сели на бережку и глядят, как господа утешаются. Василий Сергеевич, увидав пастуха, крикнул:
– Иди сюда, дед, переходи реку ниже, по броду. Приходи – угостим.
Пастух встал, мальчик-подпасок побежал по лужку за кусты, где вдали паслось стадо, и, хлопая длинным кнутовищем, погнал стадо по краю соснового леса.
Дед-пастух подошел к нам, поднес к губам длинную дуду пастушью, и берег огласился протяжными переливами.
Композитор Юрий Сергеевич, мигая, смотрел на седовласого старика.
– Это вот в утро, барин, играю… – говорил пастух. – А это вот вечор… А это вот самое – Богу и солнцу… Кто хлебушка дает нам, грешным…
И дед играл на дуде, задумчиво водя серыми глазами. Юрий Сергеевич смотрел на старика и мигал. В звуках, отрывистых и протяжных, было что-то отрадное, похожее на всю красу берегов дивной родины нашей… Какая-то настоящая красота и ласка душевная лилась в звуках пастушьей свирели.
– Спасибо тебе, – сказал Юрий Сергеевич, когда пастух кончил. – Вот, выпей, закуси.
– Закусить – благодарствую, а пить… Нет, не пью. Дал обет. Давно, смолоду, Преподобному Илье Пророку… В грозу и с градом – обет дал, когда всех овец перебило… В Нереке то было, не пью. Ну а рыбка хороша. Река Нерль невелика, а рыбна… Только вот купаться опасно здесь – вот ето место.
– Почему? – удивились мои приятели. – Почему опасно?
– Да вот… это самое место, а на бугре-то сад, значит, там ране дом господский был большой. Я еще махоньким его помню, большой дом. Сгорел, значит, он. Барин ране жил там – Ступишин, у его жана плясунья была. И вот до чего хороша… и плясала она ране в Питере. И увидел ее Ступишин, к себе и увез. А она и померла. И вот он после того стал чисто зверь. Вот пил… Тожа помер… Патрет ее большой был в доме, она ночью с патрета выходила и плясала в саду… Ну дом и сгорел. А она куда делась – говорили, в воду ушла… В реку. Видал я разок ее по осени – вот это место. В ночном пас, месяц светил. Со скуки я и поиграл на дуде. А она-то над рекой – это вот место – пляшет… И платье у ей широкое, красива была… Пляшет и в воду глядит. Как играть-то я бросил, она села и заплакала. Гляжу – ее и завернуло туманом… Вот он, Колька, видел, – показал он на подпаска.
Подпасок ел пирог и оглядывал нас, а потом робко сказал:
– Видал…
Была такая светлая сказка, была такая простая жизнь… Да, была… Речка-то еще есть. А чудаки мои приятели ушли в вечность…
«Ихтиолух»
Август. Я и друзья мои, охотники, устали на охоте. Ходили-ходили по мелколесью, исходили и большой казенный лес, Красный Яр, но вот – ничего.
И собаки, высунув языки, идут сзади нас.
– Тетерева-то скучились, – говорит деревенский охотник, приятель мой Герасим Дементьевич. – Подросли и скучились. Дело-то к осени. Где они? Велик лес. Надо на стару сторожку идти. Там, может, найдем глухарей. В бору что делать? Надо выходить.
И Герасим пошел вперед. Мы, усталые, поплелись за ним.
Жаркий день. Солнце пятнами сквозь высокие сосны ложится на седой мох и ровный игольник. Душно в лесу. Пахнет сосной и смольем.
Вскоре поредел лес, и показалась блистающая зеленью поляна. На ней большие стога сена. Мы радостно расположились в тени одного из них. Сняв ягдташи, Караулов вынул из них закуски: хлеб, вино, колбасу, печеные яйца.
– А где же пирожки с визигой? – спросил я.
– У Николая Васильевича, должно быть, – сказал Караулов, – в корзинке.
Коля задумчиво лежал у стога, смотрел, мигая сквозь пенсне, в небеса и молчал. Около стояла корзинка, которую он взял, чтобы собирать грибы. Он ходил с нами на охоту без ружья. «За компанию».
– Что ж ты молчишь? – спросил Василий Сергеевич. – Давай пироги-то.
– Какие пироги? – медленно приподнимаясь, сказал Коля. – Я, брат, не знаю, что в корзинке.
– Неужто съел все? – изумился Василий Сергеевич.
– Ну уж и все, – меланхолично ответил Коля. – Каждому осталось по пирогу.
– Костер бы подбодрить в стороне, – предложил Павел Тучков. – Чай заварить. Пить хочется. Жара…
На скатерти разложили закуски. В стороне горел костер, трещала можжуха. Мы долго ждали, лежа у стога, возвращения Герасима, который пошел искать воду. Вернувшись с большим медным чайником, он повесил его над костром.
– Где ты воду-то достал? – спрашиваем мы.
– Да-алеча. Вот за лугом – овражек. Там, у олыпины, бочажок. И вода хороша.
Несказанная отрада – чай среди луга, у стога сена… Никогда он не казался таким вкусным. И эти пирожки с визигой.
– А что такое визига? – спросил вдруг Коля.
– Вот, визиги не знает, – засмеялся Василий Сергеевич.
– Забавно – но я тоже не знаю, что такое визига, – сказал Павел Александрович. – Из чего она делается?
– Вот тоже, – сказал приятель Вася, – из чего делается? Из рыбьего клея…
– То есть, позвольте, как это – из клея? – усомнился Коля.
– Вот ведь, не знают, из чего визига делается, а сами в «Праге», в «Метрополе» жрут визигу. Хороши голубчики.
Я помалкивал, про себя думал: «А в самом деле – что такое визига?» И вслух спросил:
– Герасим, ты знаешь, что такое визига?
– Нет, – ответил Герасим. – А чево это?
– Да вот, пироги-то ты ешь – с визигой.
– Хороши пироги. Я впервые эдакие-то ем.
– Да ты видал визигу-то? – спросил Караулов Василия Сергеевича.
– Еще бы. Она такая – винтом идет. Как веревка. Ее на аршины покупают.
– Что за черт! – воскликнул Павел Александрович. – Странно. Я никогда не видал.
– И я никогда не видал, – удивлялся Павел.
– И я не слыхивал, – сказал Герасим.
– Из рыбьего клея, говоришь, делают? Чудно! – озадаченно бормотал Караулов.