Нетрудно заметить, что три первоначала сила, мудрость и любовь заимствованы из учения Абеляра о Троице и что Николай Кузанский дал толчок к приравниванию к ним факультета, реальности и воления, поскольку для Николая реальность это плотиновский nus, то есть знание или мудрость, совпадающая со своими объектами. Поскольку Кампанелла не занимается неоплатонической троицей Бога, Нуса и мира-души и в любом случае не пытается связать ее с Троицей, у него остается свободное место для абелярдианской троицы, и он может попытаться использовать ее философски, чего Бруно не позволяет сделать. Как и Николай Кузанский, он разделяет способности и волю на два разных принципа, но, как и Кузанский, впоследствии не соединяет их по необходимости. Если воля следует из знания, то знание должно следовать из факультета. Если бы факультет был факультетом воления, то первое воление, предшествующее познанию, нужно было бы искать во внутреннем акте потенции; тогда второе воление было бы только волением, определяемым мудростью, а первое было бы еще неопределенным или пустым волением, и оба фактически только одно воление. Если, с другой стороны, факультет не следует понимать как факультет воления, но его внутренним актусом должно быть существенное знание, тогда у воления полностью отсутствовал бы соответствующий факультет, более того, факультет знания был бы внешне бессильным факультетом, и, наконец, возникновение воления из знания было бы необъяснимым.
Кампанелла определяет факультет не как факультет воления и не как факультет знания, а как факультет бытия. В связи с этим возникает вопрос: какого бытия? О сверхбытии Единого, которого больше нет. Не о бытии факультета как реальности, предшествующей акту. Не бытие знания или воления, поскольку тогда оно снова стало бы факультетом знания и воления. А уж о мирском существовании и того меньше, поскольку оно опосредовано только знанием и волей. Невозможно сказать, какой факультет бытия может быть факультетом. Бытие» это либо отсутствие позиционирования со стороны факультета, либо воление как актус потенции воли, либо конечное существование, проистекающее из воления, определяемого знанием; но бытие никогда не является непосредственным актусом факультета, если оно само не есть воление. Тот факт, что внутренний actus факультета становится эффективным actio, уже указывает на то, что и Кампанелла должен был мыслить то, что возникает из факультета, по существу, как воление. Только это еще не конкретное воление, еще не воление мудрости, а воление Единого, первоосновы. Способность, знание и воление в Боге, конечно, должны быть едины; Его бытие и делание должны совпадать так же, как не дискурсивное, а интуитивное знание и воление. Но это единство не должно мешать нам ясно осознавать концептуальные различия, когда мы их проводим.
Воля, прошедшая через мудрость, называется любовью, потому что она хочет лучшего, цели. Здесь заметно влияние святого Августина и его последователей, которые определяли третий момент Троицы как любовь. Но у Кампанеллы это определение уже не совсем подходит, потому что, согласно ему, определенное хотение или любовь должны возникать только в результате борьбы ограниченного существа со злом, а в Боге не допускается никакого зла. Если бы Кампанелла определил зло как то, что не должно быть, а не как то, что не существует, он мог бы, по крайней мере, сохранить волю в Боге без самопротиворечия, поскольку он учит, что мир, как имеющий начало, так же возвращается к своему происхождению.
Мир возвращается к своему началу, к Богу, и должен быть испорчен в своем эмпирически данном состоянии в результате ошибки или грехопадения. Этого, вероятно, было бы достаточно, чтобы превратить волю мудрости в борьбу с безбожной внебожественностью мира и сделать его восстановление в Боге конечной целью воли. —
К итальянским мученикам Бруно и Кампанелле присоединяется Лучилио Ванини (1585—1619), которому не позволили полностью раскрыть свой великий талант невропатический стресс, легкомысленный нрав, безнравственная жизнь и ранняя смерть. По сути, он был продолжателем Кардануса и его натуралистического учения, которое он сочетал с насмешками над церковными учениями и моральным распутством. Парацельсианская школа разделилась на латинскую, иностранную, физическую ветвь и немецкую, отечественную, теософскую; главные представители последней Вейгель и Бёме.
При жизни (1533—1588) Валентин Вайгель управлял своим пастырством в Цшопау в мягком, терпимом духе, не давая себя в обиду, и гневное удивление православных было немалым, когда после его смерти он смог заявить о себе через свои первоначальные рукописные работы, После его смерти его труды, которые сначала распространялись от руки, а затем были напечатаны в начале XVII века, показали его как ученого философа и мистика, умевшего объединить традиции экхартианской школы, собранные в «немецкую теологию», с учениями кушанов, неоплатонизмом и парацельсианской теософией. В теологическом плане Вайгель родственник Каспара Швенкфельдта и Себастьяна Франка, которые были на поколение старше его и оба, в отличие от лютеранского протестантизма, боролись за акцент вечного и внутреннего над временным и внешним. Франк также придерживался доктрины Экхарта о том, что Божество само по себе не имеет личности и воли и обретает личность и волю только в Сыне или Богочеловеке. Бог это субстанция в нас, а воля лишь случайность; субстанция благо, но воля может стать и злом, если захочет быть случайностью для себя, отвернется от божественной субстанции и попытается превратить небытие в нечто. По Вайгелю, Бог есть все и творит все, создавая себя во всем. Бог без мира был бы не Творцом, а лишь безвольной божественностью; при сотворении твари он дает бытие и тем самым получает волю. Его воля это Христос, Слово Отца, которое есть сущность всех творений. (Это выражает совершенно правильную мысль о том, что в Боге не может быть только внутренней воли, но что абсолютная воля может быть только творческой волей, что Бог может быть только творящей волей). Как Бог становится целостным только через творение, через которое он получает свою волю, так и вечность становится целостной только через время, то есть через соединение времени и вечности. В состоянии невинности все воли творений сводятся к одной, а именно к воле Бога, и все человеческие существа, таким образом, являются только одним человеческим существом. Все творения это его мысли, его воля, и небесная Ева, или мудрость, благодаря которой Бог создал все, не может быть отделена от него. Зло состоит (как в «немецком богословии») в «приемлемости» собственной воли, то есть в принятии божественной воли как своей собственной воли, в отвращении ищущей себя твари от Бога; так называемая (ложная) свобода собственной воли это состояние проклятия и ада. Примирение и возрождение происходят через «спокойствие собственной воли». Если наша собственная воля умирает в нас, как она умерла во Христе, Христос живет в нас, и мы становимся свободными от естественной власти вселенной; отдавая свою волю в плен, как servum arbitrium, в руки Бога, мы обретаем спасение и истинную свободу детей Божьих. И добрый, и злой выполняют работу Бога, один знает, что это работа Бога, другой воображает, что это его собственная работа. Духовная субстанция остается неизменной через падение и возрождение (как у Таурелла), меняется только воля, которая есть accidens.
Если Вайгель таким образом берется за проблему зла более энергично, чем это делалось ранее в христианском мистицизме, то его теория познания предлагает нечто новое и своеобразное и в другом направлении. То, что познание это не просто страдание через впечатления от объекта (или, как буквально переводит Вайгель, контрвпечатления), но что познание по сути своей есть деятельность суждения, уже было признано другими. Но Вайгель идет еще дальше и признает, что даже чувственное восприятие не поступает пассивно извне, а активно извлекается из нас нашей собственной природой. Правда, встречный импульс дает нашей природе повод к ощущению и пробуждает ее производящую деятельность; но само ощущение или чувство находится не в встречном импульсе, а только в том, кто ощущает. От возбужденного чувства зависит, к какому виду принадлежит ощущение, к зрению или к чувству; каждый может иметь лицо (зрительное восприятие) без противочувствия, но противочувствие не может произвести его без провидца. Это развитие парацельсианского учения о том, что ничто не привносится в вещи внешним воздействием, но что все формируется изнутри и из зародышевых предрасположенностей, присутствующих в них, и что только стимуляция и пробуждение приходят извне. В этом предвосхищается учение о специфических энергиях сенсорных нервов, а также поправка Шеллинга к Канту, согласно которой не только форма восприятия, но и материя ощущений производится субъектом априори. Таким образом, все познание происходит изнутри в плане формы и содержания, и только пробуждение познания происходит извне; вся истина, таким образом, скрыта в нас, прежде чем она будет пробуждена встречным броском.
С другой стороны, познание это овладение внутренней сущностью вещей; поэтому учиться значит становиться тем, что мы изучаем. Мы должны познать все, а значит, и стать всем. Поскольку все знание и вся истина исходят изнутри нас, мы уже должны быть внутренне всем тем, чем мы должны стать в процессе раскрытия знания; поэтому мы должны быть всем. Это следует понимать так, что вместе с Богом мы также несем в себе откровение Бога, мир в соответствии с его природой, которая отражает его эффекты. Бог просвещает понимание (intellectus), понимание разум (ratio), разум воображение, воображение чувство; высшее может быть без низшего, но последнее не может быть без высшего. Сверхъестественная реализация возрождения это процесс, в котором контрагент, Бог, делает все, а человек ничего не делает, а только страдает; но поскольку Бог действует не извне, а изнутри, как собственное и истинное существо человека, это кажущееся исключение из внутренней сущности всякого знания перестает быть исключением. Сам Бог видит и узнает себя в нас, а мы в нем; он глаз, свет и знание в нас, а наша душа дыхание самого вечного духа.
Якоб Бёме (1575—1624) в своих натурфилософских рассуждениях о природе Бога опирался в основном на Парацельса, а в рассуждениях о природе зла на Вайгеля. Он игнорирует эпистемологические взгляды Вейгеля, а также его понимание того, что Бог становится волевым только в творении и через творение, то есть не развивает в себе волю, которая не была бы одновременно творческой по отношению к внешнему миру; Вейгель превосходит его в обоих отношениях. У Парацельса он заимствует наблюдение естественного процесса под категорией химизма, предположение, что огонь является разделяющим и соединяющим принципом в химическом процессе, учение о трех элементах соли, ртути и сере во всех сферах бытия, а также понятие микрокосма. Его оригинальность заключается в смелости, с которой он вводит парацельсианский природный процесс в природу Бога, и в гипотезе о природном корне зла в Боге.
Бёме различает: 1. чисто духовное понятие Бога и соответствующий чисто духовный внутрибожественный вечный духовный процесс; 2. духовно-телесное понятие Бога и соответствующий духовно-телесный внутрибожественный вечный природный процесс; 3. вечное творение небесного или ангельского мира; 4. временное творение земно-материального мира. Ни один из этих четырех процессов не следует путать с другими. Довольно вольно переосмысленное Моисеево учение о творении он относит исключительно к временному творению, с помощью которого Бог пытается остановить и реорганизовать путаницу и беспорядок, вызванные Люцифером в вечном творении. Падение Люцифера проистекает из парсидско-египетского влияния на позднеиудейское мировоззрение, которое также попало в христианские спекуляции через апокрифическую Книгу Еноха. Вечное сотворение ангельского мира соответствует неоплатоническому ?????? ??????, а чисто духовный внутрибожественный процесс следует христианскому учению о Троице. Оригинальность Бёме заключается не в двух последних и первом из четырех процессов, а во втором, который он вставил самостоятельно, опираясь на Парацельса. Именно поэтому он заслуживает особого внимания, тем более что именно в нем находится источник или корень зла. Центром натурфилософии Богемии является, как уже говорилось, огонь, воплощающий химический процесс соединения и разделения. Огонь объединяет в себе растворяющую и поглощающую силу с мягким теплом и сиянием; с его первой стороны возникает разрушение с его последствиями для чувств, с его второй стороны расцвет, рост, лепка и восприятие вместе с их благотворными последствиями. Первая сторона воплощает пожирающий гнев и ярость и их последствия, страх и мучения; вторая сторона провозглашает любовь и радость. Вот почему первая сторона называется огнем гнева, а вторая огнем любви; первая сторона мыслится как пожирающий, темный уголек без света, а вторая как свет, который мягко согревает, но не уничтожает. Таким образом, зомбоящик и огонь любви противопоставляются друг другу как огонь и свет, или как тьма и свет. Оба они едины во всех химических процессах, а значит, и во всех вещах; в отрыве друг от друга они являются лишь абстракциями, не способными существовать. В вещи может возникнуть только преобладание той или иной стороны. В Боге, где, согласно принципу Кушана, все противоположности объединены и гармонично разрешены без противоречий, даже огонь гнева с его агонией страха не может возникнуть самостоятельно, но является лишь средством, чтобы выявить огонь любви с его радостью в качестве противовеса и привести его к исполнению. Поскольку ни одна вещь не может проявиться без отталкивания и противодействия, Божья любовь и благословение также нуждаются в своей противоположности как основе и противодействии вечного развития, гнева и мучений. Гнев и мучения это то, что само по себе не должно быть в Боге, но что, тем не менее, необходимо как средство для реализации того, что должно быть. Поскольку они находятся в Боге только как вечно преодоленные, они, следовательно, никогда не находятся в Нем сами по себе, а значит, ни в коем случае не являются небытием или злом. Но поскольку в них существует возможность того, что они могут одержать верх над творением, злоупотребляя своей свободной волей, они являются источником и корнем зла в Боге.
Бёме объясняет реальность зла в твари точно так же, как «немецкая теология», Себастьян Франк и Вайгель до него, а именно как допущение отдельной нечестивой воли вместо общей божественной воли, как выход из телеологического единства воли с Богом. Но Бёме видел проблему зла только там, где его предшественники считали ее решенной; он спрашивал себя, как это возможно, чтобы тварь вышла из телеологического единства воли с Богом, хотя ее онтологическое единство сущности с Богом было нерасторжимым и сохранялось даже в дьяволах. Его предшественники игнорировали эту проблему, отмечая, что хотя воля зависит от усмотрения существа, эффект действия направляется и определяется Богом в соответствии с его божественными целями. Бёме копнул глубже; он прекрасно понимал, что зло кроется не в следствиях действия, а в воле, и задался вопросом, как только воля может стать злой, то есть безбожной в намерениях, когда Бог есть все во всем. Он понял, что концепция божественного позволения подходит только для той точки зрения, которая не осмеливается всерьез воспринимать пантеизм, но при этом приписывает твари существо, в некотором смысле внебожественное. Он также не мог избавиться от проблемы, предполагая простую негативность или, скорее, привативность зла; ведь он признавал, что, даже если желаемое зло было лишь тщетной фантазией, злая воля как таковая могла быть чем-то совершенно позитивным и ни в коем случае не простым недостатком. Таким образом, Бёме пришел к пониманию того, что реальность зла в твари противоречила бы пантеистическим предпосылкам, которых он придерживался, если бы возможность тварного зла в виде момента, который сам по себе не должен быть и должен быть преодолен, не была бы заложена в самом Боге. Подобное понимание уже однажды возникало у гностиков, но они искали решение не в философии, а в мифологии, следуя указаниям египетских и парсийских религиозных учений. Христианство преодолело это решение, но только за счет пантеистической последовательности; церковная доктрина, по сути, отвергла пантеизм, чувствуя, что проблема зла не может быть преодолена на этой основе. Теперь Бёме делает огромный шаг вперед, ища божественный корень тварного зла уже не в злом под-боге, а в основополагающем моменте единого, всеблагого Бога, в моменте, который, как он предстает в процессе, сам является небытием и подлежит преодолению. Это необычайно важное достижение; ведь пантеизм мистиков теперь избавлен от упрека в том, что ему приходится скрывать проблему зла, и таким образом становится философски превосходящей теизм силой, к которой не приложимы никакие этические предрассудки. Тот факт, что Бёме, подобно христианским гностикам, цепляется за гнев и ярость ветхозаветного Бога, или то, что он считает возможным использовать природные образы, такие как огонь, не в переносном, а в реальном смысле для описания внутренних божественных принципов, не имеет большого значения по сравнению с величием этого фундаментального прогресса. Со временем эти недостатки должны были отпасть сами собой, позволив правильной основной идее возникнуть без оболочки. Баадер и Шеллинг, в частности, недавно работали над этим отбрасыванием, не осознавая, однако, этого в полной мере. —
Царство мрачного и царство радости, торжествующей в удовольствии, ад и рай, находятся повсюду, потому что огонь и свет проходят через все существа. Вечно единое и вечно доброе называется Богом на небесах и гневом в аду. Поэтому в каждом существе находится центр, из которого проистекают добро и зло; но противоположности еще не дошли до признания в нем, потому что они связаны друг с другом. Должен произойти химический процесс разделения сил; он не должен не произойти, если человек хочет пробиться к знанию и сознательной нравственности. Человек хочет ощутить вкус каждой силы в отдельности, и поэтому он отдается им по очереди, вместо того чтобы оставить их в том состоянии, в котором он их получил. Отдача огню гнева, пробуждающемуся из центра, это в то же время затемнение света, отпадение от спокойствия свободной воли, то есть воли, пребывающей в Боге, к независимости и самодостаточности воли, которая беспокойно ищет чего-то. Но что находит беспокойно ищущая воля, отделенная в самости, так это смущение от беспокойства, и это заставляет ее снова искать покоя в тихой и спокойной воле небытия. Ибо свет не перестает проникать в него, и только от него зависит, найдет ли он в нем существо любви, которое сможет зажечь. Если человек упорствует в огне гнева, его принимает Божий гнев; он отвергается, потому что отверг себя. Но если он впускает искру Божьей любви обратно в свет жизни, в нем рождается Христос, который сокрушает голову змея эгоизма. Вот почему Бёме борется против любого выбора благодати, который был бы чем-то иным, кроме как божественным подтверждением выбора, сделанного человеком. Слово стало человеком везде, а не только в Деве Марии. Если бы Христос был чужим, то и в нас должен был бы родиться чужой, который не является нашим «я»; но наше «я» должно присутствовать при возрождении, и мы получаем не чужую силу, а свою собственную и первую. Таким образом, Бёме эффективнее и глубже, чем его предшественники, борется против церковной гетеросотерии в пользу автосотерии на основе пантеистической имманентности. Если мы теперь рассмотрим царство ярости и царство радости в Боге, которые оба связаны и разделены принципом огня, то в первом он помещает три парацельсианских элемента, соль, ртуть и серу, или горькие, сладкие и кислые качества; а в царстве радости он сначала помещает свет, затем звук (с включением запаха и вкуса), и, наконец, телесность. Таким образом, получается семь природных принципов, качеств или духов-источников. Поскольку огонь делится на гневный огонь и свет и тем самым исчерпывает две стороны ряда, он не должен снова стоять в центре в качестве особого принципа, так что остается только шесть; но и свет не должен снова фигурировать в качестве особого принципа на светлой стороне, если темный огонь больше не встречается в качестве особого вида на стороне огня. Такая конструкция явно нарушает священное число семь. Аналогичным образом меняются обозначения горьких, сладких и кислых качеств, в то время как парацельсианские элементы остаются неизменными.
Натуральное философское значение соли или горького качества сила сжатия (также уплотнения или коагуляции), ртути или сладкого качества сила расширения; таким образом, оба означают то же самое, что холод и тепло в Телезиусе. Третье горькое качество возникает из сжатия и расширения, из удержания и бегства, но оно не имеет натурфилософского значения, только психологическое, а именно чувствительность или страдание (сера, которая играет такую важную роль в аду). Из суммы этих трех элементов, которая также известна как salnite, внезапно вырывается огонь, поэтому его называют молнией или испугом. В теплом свете агония страха уже ослабевает; звук, который следует за молнией как гром, это гармония сфер или вечная музыка и в то же время средство общения, поэтому его также называют пониманием или божественным пониманием, а со стороны существа познанием. Телесность это в то же время принцип формирования или лепки и как таковой вывод естественного процесса. —
Симметричная группировка двух триад вокруг разделяющей цели огненной вспышки позволяет объединить две триады в одну, сочетая по два качества в каждой, и тем самым приблизиться к Троице. Первое и седьмое, стремление к сжатию или уплотнению и телесное формирование, должны быть едины; в формировании или телесности физически исполняется то, к чему сначала стремились духовно в стремлении к уплотнению. Точно так же второе и шестое качества, тенденция к расширению единого во многое и разумная сила звука, должны быть едины; расширение разумного и осмысленного звука показывает нам реализованным в физической естественности то, к чему эта тенденция стремится духовно. Наконец, третье и пятое качества, голодная боль чувствительности и свет любви, должны быть едины. Первая пара отнесена к Отцу, вторая к Сыну, третья к Святому Духу. То, что в первой триаде остается духовной тенденцией, во второй триаде получает естественное воплощение или телесно-физическую реализацию; таким образом, первая триада относится ко второй, как бестелесный дух относится к телесному духу, как душа к телу, или как дух к природе. Это подтверждается тем, что первая триада если не точно, то хотя бы приблизительно совпадает с чисто духовным внутренне-божественным процессом воли, в то время как вторая триада вносит странные детерминации. Это также предполагает, что телесность, седьмой принцип, который, как предполагается, объединяет в себе все семь, приравнивается к природе, и что природа как полная возможность бытия отождествляется с сущностью, а сущность с телесной субстанцией. Однако Бёме не остается верен себе в этих группировках. Ему действительно должно было показаться сомнительным сопоставление царства гнева и царства радости, последнее из которых оправдывает имя Бога, как духа и природы, и применение обозначения духа к сальнитам. Поэтому три или четыре последних принципа иногда противопоставляются божественному или духовному, а первые три природе, так что духовное совпадает с царством радости, а природа с царством гнева или темным огнем ярости. Это описание используется теми, кто относит корень зла к природе в Боге; однако такое описание не соответствует основной идее Бёме. Скорее, ее следует сформулировать так, что во внутренне-божественном природном процессе каждый духовный момент не может быть отделен от соответствующего ему природного момента, а скорее, что все это духовно-телесный процесс, в котором постоянно возрастают как природность, так и духовность. Если смотреть на возросшую духовность последних трех стадий, то относительно более низкая духовность первых трех стадий может показаться по сравнению с ней все еще непобежденной природой; если же смотреть на параллельное возрастание естественности, которое достигает кульминации только на седьмой, то более низкая естественность первых стадий предстает как все еще нереализованная духовность. Химико-психологическое двойное обозначение уже указывает на то, что природа и дух взаимопроникают на всех уровнях. Оба имеют свой максимум в первой и свой минимум в последней форме; [4 - Нам может показаться, что одухотворение уже достигло своего максимума в шестой форме, понимании, но если бы телесность только помогала твари, а не Богу, увеличивать понимание и тем самым одухотворение, то ее место было бы вовсе не во внутреннем божественном процессе, а только в процессе творения. Кроме того, телесность тесно связана с Богородицей или Премудростью, поскольку обе они одинаковы по содержанию, и только первая реальна в том, что вторая идеальна, первая в телах, а вторая в образах или идеях.]но поскольку первая форма наиболее далека от совершенного духа, а последняя форма наиболее близка к совершенной природе, то единство первой и седьмой форм также предпочтительно и с полным правом можно назвать природой или центром naturae.
Но все это неточные, односторонние взгляды на двусторонние отношения; единственно точный подход Бёме заключается в том, что дух и природа взаимопроникают друг в друга, насыщая все семь уровней внутренне-божественного природного процесса, и растут и развиваются рука об руку друг с другом.
Если абстрагироваться от природы, то есть от физической субстанциональности внутрибожественного процесса, то останется чисто духовный процесс, но это всего лишь человеческая абстракция от полного и завершенного процесса, который следует искать только во внутрибожественном природном процессе. Бог есть воля и сущность, или дух и природа в одном лице, то есть он, говоря словами Спинозы, есть одновременно мыслящая и протяженная субстанция, и если рассматривать его как чистый бесприродный и свободный от тела дух, то это будет односторонне и не по истине; дух и природа принадлежат в нем друг другу, как душа и тело в человеке. Однако при таком понимании природы как вечно развертывающейся телесности или телесности Бога нельзя говорить, что корень зла лежит в природе Бога, ибо телесность Бога не имеет никакого отношения к происхождению зла. Бёме не пытался отделить природу Бога от духа Бога и представить их отдельно; поэтому не существует чистого противопоставления чисто духовного, внутренне-божественного процесса, и даже если мы противопоставим чисто духовный процесс телесно-духовному природному процессу в Боге, это всегда останется лишь нечистым противопоставлением, отношением типа a:a + b. —
Природу, или телесность, или телесность в Боге, с одной стороны, не следует путать с тварной природой небесного ангельского мира или даже временного земного мира, а с другой не с ?????? ??????, или умопостигаемой, или идеальной вселенной в Божьем духе, или абсолютной идеей, или мудростью, или «местом образов» в Боге. Природа в Боге имеет общее с природой, как мы ее знаем, только протяженность или телесность и химическую природу, но в остальном должна рассматриваться как нечто несравненно более высокое. Идея или мудрость отличается от природы в Боге, как образ от телесной формы, как идеальное от реального. Как и у Альберта Магнуса, природа это физическая форма как таковая, но не как идеальная, а как реальная, не как образ в божественном мышлении, а как субстанция в божественном бытии. Природа в Боге ближе всего к первоматерии Аверроэса и Парацельса, из которой все может стать, и которую Давид Динантский уже отождествлял с Богом. Бёме не хватает гораздо больше, чем Бруно, понимания динамической природы телесной материи или даже реальности самого динамического принципа; чтобы поместить принцип реальности в Бога, он помещает в него то, что только он один считает реальным, телесность или телесность. В этом вопросе Бёме все еще застрял в Средневековье, и его поклонники, которые не осознали этого, позволили ему увлечь себя обратно в Средневековье. В схоластических терминах Бёме природа в Боге означает не что иное, как то, что Бог это не чистая форма, а единство формы и материи. Бруно также приравнивал отношения между Богом и миром к отношениям тела и души; но для него телом Бога был этот известный нам элементарный мир, а мир-душу он приравнивал к природе как духовному принципу. С другой стороны, для Бёме этот грубо чувственный мир с его натурализованной природой кажется слишком низким, убогим и несовершенным, слишком продуктом тления, чтобы искать в нем тело Бога, и поэтому он приписывает ему физическую природу иного, более высокого рода. Он ищет тело Бога ни в элементарном, ни в побочном, небесном мире ангелов, но исключительно в сакраментальном или божественном мире Парацельса, и называет это природой в Боге.
Прежде всего, сущность и природу у Бёме не следует путать с эквивалентными выражениями у Экхарта. Экхарт понимает «сущность» как сверхчувственную, нематериальную, абсолютную субстанцию Божества, а «природу» как его атрибуты, которые для него ограничены нусом или высшим разумом (как источником понимания и воли); Он различает еще не натурализованную природу в Божестве и натурализованную природу в Боге, как потенцию и actus атрибутов, но никогда не думает о телесности или даже материальной субстанции при слове «природа», хотя бы потому, что множественность, индивидуальность и телесность рассматриваются им как чисто субъективная видимость, не основанная на Боге. Бёме же понимает сущность только как телесность или материальную субстанцию, а природу как химически дифференцированную и морфологически сформированную телесность, которая в своем совершенстве представляет собой телесность индивидуальности. У Экхарта сущность и природа являются переводом слов substantia и essentia и поэтому вполне могут быть применены к его акосмистическому абсолюту. В творчестве Бёме включение сущности и природы в Бога это архаичное варварство мысли, чувственно-наивную грубость которого его поклонники скрывают лишь с помощью расплывчатости. Тот, кто хочет говорить о природе в Боге, должен прежде всего указать, что он под этим подразумевает, в каком смысле он понимает это слово или какой новый смысл он ему придает; но он не должен ссылаться на Бёме, ошибка которого состоит именно в том, что он некритически и фантастически переносит наивно-чувственное понятие материи и телесности, вместе с грубыми натурфилософскими категориями своего времени, на Абсолют и его процесс.
То, что концепция природы в Боге у Бёме ничего не дает для реального спекулятивного прогресса, для реализации небытия в Боге, уже было показано выше; одежда небытия и того, что должно быть преодолено в естественном образе темного огня в противоположность яркому свету, ни в коем случае не совпадает с контрастом природы и не-природы в Боге, но попадает в противоположности детерминаций природы, не будучи концептуально связанной с ними. Мы сразу же увидим, что этот контраст остается в чисто духовном понятии Бога даже после того, как природные образы отброшены, и что Бёме мог бы, таким образом, с тем же успехом показать небытие в своем чисто духовном понятии Бога, и ради этого небытия не нужно было бы проецировать природный процесс на Бога как такового. —
Разрабатывая чисто духовную, «неестественную» концепцию Бога, Бёме отталкивается от Божества Экхарта, которое совпадает с неоплатоническим Единым и безмолвием или бездной гностиков. Вечное единство это (фактически) небытие, ибо оно есть вечная тишина, неподвижность без сущности (то есть без телесности), бескачественность без света и тьмы, бесчувственная и бесстрастная, непроявленная, не проявленная даже для самой себя.
Это беспочвенная бездна, но также и бездна, из которой все происходит, небытие, из которого созданы все вещи и которое, следовательно, потенциально является всем. В этом небытии следует различать две вещи, которые не следует ни выводить, ни путать друг с другом: с одной стороны, активный момент, который инициирует вечный процесс становления и поддерживает его, а с другой пассивный момент, который окружает своим присутствием все шаги первого и выполняет его как ответный бросок. Первый, который Бёме также рассматривает как единственного носителя процесса в силу его единственной активности, он называет волей, второй, в силу его пассивности, девой, определяемой по содержанию: вечная мудрость, место образов (идей), око вечного видения или божественный разум. Второй момент, очевидно, соответствует разуму Экхарта и неоплатоническому nus; но тот факт, что Бёме также вновь вводит первый момент, волю, как инициатора и фактического носителя процесса, является значительным прогрессом по сравнению с Экхартом. В то время как Экхарт заходит в одностороннем интеллектуализме Фомы так далеко, что, кажется, допускает, что воля действительна только в существе, Бёме восстанавливает приоритет, который Данс отдавал воле. Таким образом, он ближе к плотиновской модели, чем любой другой христианский философ до него. Но если у Плотина инициатива принадлежит только воле, а сам процесс является по сути интеллектуальным, который сопровождается волей как самоочевидной принадлежностью на всех уровнях, то у Бёме весь внутренне-божественный духовный процесс это процесс воли, которому пассивно противостоит око воображения или зеркало мудрости как самоочевидный противовес. Таким образом, воля и мудрость или понимание также являются атрибутами Божества у Бёме, как и у Фомы и Дунса; но если Экхарту уже пришлось отказаться от привлечения сущности бестелесного Божества к Троице, как это сделали Фома и Дунс, то Бёме уже не мог думать об этом. Как и Экхарт, он должен был искать Троицу в моментах или фазах процесса, а не в Едином Существе с его двумя атрибутами, как это делали Фома и Дунс. Однако, поскольку он рассматривал волю как активного автора и носителя процесса, он должен был переосмыслить три фазы одностороннего интеллектуального процесса как фазы одностороннего волевого процесса. Однако сделать это ему удается, лишь рассматривая чисто интеллектуальный волевой процесс как пространственно-механический природный процесс, то есть предвосхищая то, что в Боге должен породить только духовно-телесный природный процесс. Если интеллектуальный процесс Экхарта основан на плотиновском тождестве мыслителя, мысли и мышления, то волевой процесс Бёме ищет опору в идеях пространственного сжатия, расширения и силы-эманации и поэтому значительно отстает от него по содержанию.
Инициатива воли хорошо описана Бёме. Вечное небытие само по себе уже есть воля, но воля не только без объекта, но и без чувствительности и побуждения, то есть дремлющая (потенциальная) воля. Но небытие жаждет чего-то, жаждет откровения; воля, тонкая, как ничто, теперь желает стать чем-то, чтобы проявиться. (Потенциальная) воля это вечная свобода; неопределенная свобода, однако, ищет версию себя и таким образом становится поиском, желанием, стремлением. У воли нет ничего, что она могла бы волить, кроме самой себя (она, таким образом, волит); у нее нет ничего, что она могла бы постичь, кроме единственной вещи, которая еще не постигнута (или неопределенна). Поэтому для того, чтобы помочь этой пустой воле, которая не может ничего волить из-за отсутствия содержания, волить что-то, нужно было бы призвать постоянно присутствующее противодействие воли, пассивную мудрость, чтобы воля могла волить как воля, исполненная идеи. Начало этому также положено: непостижимая воля, как око вечного видения, вводит себя в вечное созерцание самой себя, или превращает себя в зеркало и видит в себе то, что она есть, или уравнивает желание с воображением, и воля оплодотворяет себя через воображение желания из ока мудрости и таким образом рождает слово или звук.
Но этот непосредственный союз воли и мудрости не преследуется далее; вместо этого сначала рассматривается исключительно процесс воли, а мудрость откладывается до конца. Если бы пропитывание воли из ока мудрости совокупностью «образов», составляющих ее содержание, здесь уже принималось всерьез, то воля должна была бы реализовать эти образы немедленно, т. е. инициатива процесса в Боге также немедленно совпала бы с началом процесса творения и не осталось бы места для внутрибожественного тринитарного процесса. Поэтому желающая воля должна изначально желать не идеи, а саму себя, не как неопределенное ничто, а как детерминированное нечто. Неопределенную пустоту небытия достаточно представить себе пространственно, и точка предстает как соответствующий образ детерминации. Поэтому воление должно быть тенденцией пустого пространства к точке, а для того, чтобы волить себя, к своей точке или центру. Таким образом, воление как сократическая тенденция к центру, в котором ничто обнаруживает себя как нечто, есть субстанциальное воление, сконцентрированное в субъекте. Поскольку Бёме еще не отличает слово субъект от субстрата, он использует для нашего понятия субъекта слово эго или эгоистичность, при этом мы не должны думать о самосознании или даже личности, а только о субъекте как избирательном носителе волевой активности. Бёме также использует для обозначения субъекта сердце или разум, поскольку и то, и другое означает сокровенную суть жизни; в частности, разум служит для перевода слова mens, которое совпадает с imago dei или малой искрой. Таким образом, воля постигает себя как основание и место своего Я-существа, и тем самым непостижимая или непостижимая воля утверждает себя как постигаемая воля, как сын, который вечен вместе с ней. Как первое стремится от неопределенной необъятности к детерминированному пунктуальному единству, так и второе стремится от единства к (теперь уже не неопределенной множественности); это растворяющее, распространяющее движение, бегство или расширение.
До сих пор представление чисто-духовного процесса соответствовало первым двум формам природного процесса. Тот, кто представляет себе волю как истинно духовную потенцию, не будет мыслить ее пространственно, как пустое пространство или как пространственную точку; он будет понимать ее как духовный центр действия или субъект деятельности, не думая поэтому о ней как о пространственном центре своей сферы деятельности; ему не нужно будет предшествовать центробежной деятельности центростремительной и рассматривать первую как продукт или сын второй. Бёме не попытался объяснить, как неопределенное, беспрерывное стремление, которое волит только себя (т. е. как воление), становится центростремительным волением, которое хочет ввести эго или субъект для воления; можно подумать, что беспредметное воление должно также оставаться вечно беспредметным, и что нет необходимости вводить субъект, если воление уже является волением даже без субъекта. Ему не хватает не субъекта, а объекта, и он обретает его не путем выдвижения субъекта, а только через содержание мудрости. Вопрос о том, принадлежит ли неопределенное стремление, дающее инициативу, еще потенции или уже центростремительному стремлению, то есть считается ли оно принадлежащим вечному божеству или Отцу, остается в работе Бёме неясным и колеблющимся.
Остается также неясным, что означает третий эффект волиfc, дух, исходящий от Отца и Сына. Здесь, как и в случае с третьей формой естественного процесса, отсутствует натурфилософское определение, а чувствительность или мучительность горького качества, кажется, не очень подходит Святому Духу. Возможно, можно было бы придерживаться единства третьего и пятого качеств и, соответственно, предположить, что свет проистекает из равновесия тенденций к сжатию и расширению, так что это соответствовало бы Святому Духу с точки зрения натурфилософии; но даже Сын, как сказано, относится к Отцу, как свет к темному огню. В любом случае, о Святом Духе говорят, что он представляет собой третий эффект воли, вытекающий из первых двух, или же является силой, исходящей от них, природа которой не уточняется. Таким образом, Троица состоит из трех эффектов воли, которые вместе составляют лишь одну волю. Только в качестве четвертого следствия происходит внедрение эманированной духовной силы в перечисленные образования, возможность которого открывается для нее содержанием мудрости; Святой Дух как участник волевого процесса, таким образом, все еще предполагается непостижимым. Эпизодическая попытка Бёме противопоставить Деву Духу как выдыхаемое выдыхаемому кажется ошибочной, во-первых, потому что выдыхание это функция не Духа, а Отца и Сына, а во-вторых, потому что абсолютная идея или «обитель образов» никогда не может возникнуть из лишенной идеи деятельности воли. Насколько понятным является различие между потенциальным волением, пустым волением и волением, определяемым идеями, настолько же непонятным является воление, определяемое содержанием, которое еще не должно определяться идеями, но должно витать посередине между пустым волением и волением, определяемым идеями. Это воление, наполненное содержанием, но лишенное идей, становится еще более непонятным благодаря разделению на три волевых эффекта, первые два из которых просто объясняются с помощью пространственно-чувственных образов из натурфилософии, а последний остается совершенно неопределенным. Попытка Бёме построить таким образом внутренний божественный тринитарный процесс терпит полный крах, и все усилия его поклонников спасти хоть что-то от этой звезды воли оказываются тщетными.
РБёме сам признает, что его три эффекта воли еще не являются тремя божественными существами Троицы, потому что как чисто духовные моменты они еще не являются существами вообще, т.е. физическими субстанциями. Они становятся таковыми только в процессе природы в Боге, когда сократительная воля Отца становится единой с centrum naturae или телесностью, экспансивная воля Сына со звуком или пониманием, а эманация силы Святого Духа со светом. Но даже в этом случае они становятся только существами, а не личностями; Бог становится личностью только во Христе, как учил уже Экхарт и утверждает Бёме, и еще не в Сыне Божьем Троицы, а только в Богочеловеке Христе, который живет в каждом возрожденном человеке. Кстати, в распределении семи качеств между Троицей Бёме отнюдь не везде остается верен своим предпосылкам, но и здесь демонстрирует множество колебаний и неясностей. —
Природный процесс Бёме предлагает так же мало приемлемых концептуальных моментов, как и его чисто духовный процесс воли; его философское значение состоит исключительно в том, что он предположил момент небытия в Боге как корень тварного зла, которое должно быть преодолено. Мы видели, что это небытие-сущность заключалось в царстве мрачности в виде первых трех форм природного процесса, и что они совпадают со звездой воли или троякой актуальностью воли. Таким образом, небытие-воля это, во-первых, не потенция воли, не вечное Единое, не бездна, из которой возникает воля; во-вторых, это не мудрость, через союз с которой воля переходит из трех форм Гримма в три формы царства радости; в-третьих, это не природа как телесность или телесная субстанциальность, а исключительно актуальная воля в ее обособленности и до ее союза с мудростью, но как таковая также во всех формах, которые она может принимать. Короче говоря, небытие-воля в Боге это воля как таковая и сама по себе, и в ней одновременно заключено божественное несчастье или страдание, которое необходимо преодолеть; это единственное, что остается в результате спекуляций Бёме. С этим согласуется то, что Бёме, как и все мистики, представляет себе возвращение многих в единое как цель процесса, через достижение которой смута и раздоры многих вновь разрешаются в покой единого, и что он понимает этот процесс в свете Божества как преодоление мучений, обитающих в глубине. То, что он также говорит о крике радостей в свете и звучании и пении небесной музыки, это эвдемонистические приукрашивания и преувеличения божественного мира, которые можно дать жаждущему счастья, опьяненному Богом мистику как воображаемый контраст с его мирской нищетой и преследованиями. —
Родственным духом Бёме является Роберт Фладд (1574—1637), который стремился объединить каббалу и неоплатонизм с христианством. Он также помещает основные телескопические силы холода и тепла, или тьмы и света, или первоматерии и первоформы, или сжатия и расширения, или центростремительной и центробежной активности, или конденсации и разрежения, или притяжения и отталкивания в самого Бога, приравнивает их там к антипатии и симпатии, ненависти и любви, недостатку и положению, нежеланию и воле, noluntas и voluntas, отражению в себе и откровению из себя, и выводит тварные качества из соответствующего им божественного корня. Таким образом, темный noluntas dei (или божественная злая воля) является корнем смерти, зла, болезни, недостатка, пустоты, покоя и зла; но зло является злом только потому, что оно соответствует noluntas dei. Фладд ищет потенцию противоположной деятельности в первозданном чистом и, таким образом, представляет божество Экхарта как потенцию желания и нежелания, или как двойную способность, в которой неактуальная потенция смешивается со способностью отрицательной воли. Он уже основывает экспансивную силу тепла на термометре. Он объясняет конфликт противоположностей (любовь и ненависть, симпатию и антипатию) в природе с помощью явлений магнетизма, а также тождество противоположностей в Боге. Помимо двух активных сил холода и тепла, он предполагает сухость воздуха и влажность воды как пассивные элементы, но считает, что и то и другое можно проследить до воды как первоматерии. —
Третий современник Бёме и Фладда, парацельсист Иоганн Баптиста ван Хельмонт (1578—1644), двигался в несколько ином направлении. До грехопадения мы были просвещены Богом; через грех к нам добавилась чувственная душа, которая поставила нас под контроль органов чувств. Чувства и понимание (ratio) вместе не могут дать знания, выходящего за рамки неадекватных внешних проявлений и отношений. Только разум (intellectus) дает знание, причем интуитивное, которое (как у Вайгеля) трансформируется в объект, что, в свою очередь, возможно только потому, что оно имеет ту же природу, что и объекты. Это яркое интеллектуальное познание не является дискурсивным размышлением, оно ближе к чувственному, живописному восприятию, чем к рациональной дедукции; оно подготавливается занятием воображения объектом, постом, спокойствием воли и молитвой, а затем возникает только в сомнамбулических состояниях сна. Над интеллектом стоит только mens или imago dei, или разум, к которому относится дистанционно действующая магическая сила воли. У людей, отделенных от тела, есть только разум и интеллект; разум, однако, действует только в единстве с божественной волей, так же как интеллект существует в единстве с божественной истиной.
Гельмонт решительно отрицает происхождение зла и нечестия от Бога и выводит его из свободной воли существ как нечто просто добавляемое per accidens. Он отвергает любые конфликты в природе и считает, что благость Бога может соответствовать только гармоничному сотрудничеству всех сил по гармоничным законам, как мы видим гармоничное сотрудничество частей организма.
В организме это гармоничное, единое руководство осуществляет архей, «кузнец деторождения и будильник жизни», то есть организующий принцип, пластически исполняющий образ, полученный от чувственных душ родителей. Архей, который следует рассматривать как разумный, бесплотный дух жизни, наделенный симпатией и антипатией, помещает в каждый член тела воспитателя или кормильца, или членный субархей, над которым он осуществляет надзор, витая туда-сюда. Симпатия и антипатия архея, а также его дистанционно действующая (биомагнитная) сила, основаны на принципе, который Гельмонт называет Blas по своему собственному имени; Blas включает в себя сидерический и человеческий магнетизм, то есть астрологические влияния звезд (Blas stellarum) и медиумическую нервную силу (Blas humanum).
Важнейшим аспектом учения Гельмонта является его решительный переход от материальной к динамической концепции материи; он начинает с первой, т.е. с противопоставления материи действующей и формирующей силе, а заканчивает полным растворением материи в силовых эффектах. Материальную причину Аристотеля он сначала трактует как «родовой сок», но отрицает ее чистую пассивность и объявляет ее способствующей причиной. Предполагается, что активная причина это внутренне действующая сила»; в той мере, в какой существует и внешне стимулирующая механическая причина, она является лишь случайной причиной, создающей благоприятные условия для развития внутренних природных сил; но такая причина не является необходимой и может отсутствовать. Он ненавидит старую аналогию между естественным развитием и художественным формированием; скорее, он понимает цель как по сути имманентную, заложенную Богом, и предполагает вместе с Парацельсом, что все развитие обязательно определяется изнутри заложенными в нем задатками или семенными зародышами. Таким образом, семя или семяподобный архей это то, из чего возникает материя как следствие; каждый член архея должен образовать свою собственную материю или разделиться на дальнейшие субархеи, подобно правящему архею, который делегировал члены от себя. Но поскольку сам архей снова мыслится как бесплотная субстанция, заимствующая у чувственной души идею или семенную идею для воплощения в жизнь, и поскольку этот imago seminalis описывается как внутреннее духовное ядро архея, содержащее его плодородие, то до сих пор так называемый архей опускается как бы на внешнюю материальную сторону внутренней силы, на бесплотный воздух жизни, который приравнивается к родовому соку, т. е. к материи. Квазиматериальный архей предстает теперь как продукт, во-первых, imago seminalis, во-вторых, ферментов или скрытых свойств и, в-третьих, пузыря, то есть трех нематериальных начал. Какими бы несостоятельными ни были эти построения в деталях, они, тем не менее, проложили путь к динамической концепции, сводящей чувственную материю к относительно постоянному воздействию сил, то есть к иллюзорной субстанции, которая не проявляет себя как субстанция, подобно тому как чувственная жизнь человека представляет собой лишь видимость субстанциальности, которая растворяется со смертью. Оставалось сделать еще один шаг искать действенные силы в нематериальных духовных существах. Сам Гельмонт объявляет mens нематериальным, а чтобы его можно было постичь непространственно, он определяет его как пунктуальное и ищет его место в устье желудка. —
Франца Меркурия ван Гельмонта (1618—1699) нелегко отделить от его отца, под руководством которого он вырос; поэтому мы предвосхищаем хронологическую последовательность и относим его, наряду с его современниками Анри Мором и Ральфом Кадвортом, к теософской натурфилософии предыдущей эпохи, хотя все трое являются отголосками прошлых интеллектуальных течений в период более поздней философии.
Младший Гельмонт внешне отличается от своего отца в некоторых отношениях, но как теософский натурфилософ он стоит на той же почве, что и тот. Он отказывается от трех парацельсианских элементов и заменяет их оппозицией спонтанности и восприимчивости внутри монадической субстанции, которую он приравнивает к оппозиции разума и тела. Мертвая, инертная, чисто пассивная материя для него абсурд; всякое действие одной субстанции на другую предполагает спонтанность и восприимчивость с обеих сторон и требует наличия высшей третьей монады, центрального духа, под доминирующим и направляющим влиянием которого происходит взаимодействие.
Правящая архея и правящая субархея отца становятся в сыне правящей центральной монадой и правящими монадами, каждая из которых объединяет в себе спонтанность и рептильность или духовность и телесность. Эффект каждой монады является для другого лишь внешним стимулом или случайной причиной для развития внутренних сил внутри него; но, в отличие от отца, он рассматривает этот внешний стимул как необходимый для реализации развития. В том же смысле он считает чувственное восприятие необходимым для познания; но только центральная монада объединяет и перерабатывает многообразные впечатления в сверхчувственное познание. Поэтому духовное не является неделимым само по себе, ибо оно состоит, как уже предполагал Парацельс, из множества духов или мыслей, которые не являются только и исключительно духовными, но имеют и телесную сторону, как это видно из их сохранения в памяти. С другой стороны, телесное само по себе не делимо, а состоит из монад, число которых в мире определенно и известно Богу (хотя и не конечное).
Дух это глаз, наблюдающий свой собственный образ, тело тень (opacitas), которую принимает отражение на образе, то есть видимость, возникающая в результате деятельности духа, который относится к духу, как тепло относится к свету. Дух и тело, таким образом, различаются не по сущности, а только по форме, не два вида субстанции, а члены отношения, частично внутри одной монады, как спонтанность и восприимчивость или действие и страдание, частично между доминирующей центральной монадой и комплексом обслуживающих монад. Каждое тело духовно само по себе и предназначено для постепенного одухотворения; каждый дух является духом только по отношению к прикрепленной к нему стороне телесности, которую, будучи конечной, он никогда не может отбросить. Тела непроницаемы друг для друга (только Бог и Христос пронизывают все), но своими силами они могут виртуально пронизывать друг друга и таким образом влиять друг на друга. Вещи отличаются друг от друга своими внутренними силами и данной им Богом способностью действовать на других и развивать себя; как взаимодействие сил двух монад в одном организме опосредовано господством и влиянием центральной монады на обе, так и взаимодействие отдельных индивидов возможно только потому, что все они имеют свою способность действовать от Бога, и все бытие и становление постоянно соединяется в Боге как центральной монаде мира. Каждая монада остается неизменной субстанцией с дарованными ей силами и существенными внутренними способностями, поскольку бесконечное число монад определено Богом и неизменно; меняется лишь способ их существования в процессе развития. Каждая монада индивидуальна и обладает пластической силой, с помощью которой она стремится собрать вокруг себя другие монады и втянуть их в сферу своего господства; в зависимости от характера ее внутренних склонностей и внешних причин внутренний ход развития, а вместе с ним и внешний ход развития будут различными. Переход к злу ограничен последствиями назначенного ему наказания, переход к добру неограничен; поэтому ни одна монада не может оставаться в движении к злу, но должна вернуться к добру. Каждая монада проходит через стадию человека с двенадцатью перевоплощениями; затем она возвращается к своему истоку, то есть к единству с Богом, но только для того, чтобы продолжить свой постоянный прогресс.
Гельмонт делит элементарный мир Парацельса на мир становления и мир делания или механического изменения; в первом вся жизнь и развитие идут изнутри, во втором смерть и застывание, черепная коробка из безжизненных костей, в которой происходит только безжизненное механическое движение. Таким образом, он примиряется с механическим взглядом на мир, который в свое время распространил Декарт, принимая его как четвертый мир. Мы машины в той мере, в какой мы тела, но духом (spiritus) мы принадлежим к миру становления, душой (mens) даже к миру первоначального небесного творения (?????? ??????). Знание механических законов мертвого мира творения не дает внутреннего постижения сущности вещей. Хотя Гельмонт на словах сохранил парацельсианское различие между духом и душой, на деле он отменил его в активной стороне отношений души и тела, так что сам он может сохранять его только как различие в степени достигнутой ступени развития. Вместе с Бруно он считает сотворенный мир бесконечным, во-первых, по пространству и времени, во-вторых, по числу существ, каждое из которых включает даже бесконечное число частей, и, в-третьих, по эффектам, но выделяет из всех этих бесконечностей, как и Бруно, истинную бесконечность или совершенство Бога.
Помимо сотворенной субстанции монад, он предполагает эманированную субстанцию Христа и субстанцию эманирующего и творящего Бога. В этом триединстве субстанций мы узнаем три неоплатонические ипостаси. Троицу, против которой он выступает в смысле ортодоксальных тринитариев, он также трактует как Бога, душу Христа и тело Христа в смысле трех субстанций. Душа Христа это непостижимо тонкий первосвет, исходящий от Бога; его тело (или мир) появилось в результате уменьшения этого света. Эта космогония напоминает Патриция. Но душа Христа это также идея или образ непостижимого Бога, в то время как его тело или реальность сотворенных вещей проистекает из Божьей воли или духа. Таким образом, у Гельмонта также есть томистская троица сущности, идеи и воли в смысле трех ипостасей. Субстанция Бога абсолютно совершенна от вечности до вечности: поскольку она не может стать ни более совершенной, ни более несовершенной, она неизменна, а поскольку она неизменна, она проста (следует понимать: она может быть простой). Субстанция сотворенных монад несовершенна и изменчива как к ухудшению, так и к улучшению, как к злу, так и к добру; будучи изменчивой, она не может быть простой, но должна быть составной. Оба вида субстанции стояли бы рядом друг с другом без контакта и были бы неспособны к отношениям, если бы посредник не связывал их вместе; ведь это противоречит природе вещей, чтобы крайности соприкасались друг с другом без посредника (подобно тому, как у Гельмонта действие на расстоянии происходит через посредников). Христос действительно изменчив, но только для добра, а не для зла, и поэтому разделяет изменчивость для добра с тварями и неизменность для зла с Богом. Таким образом, Бог не отделен от тварей, поскольку он соединен с ними через Христа; но он все же отличается от них по субстанции, так что ни он не находится в тварях, ни твари не являются частями его самого.
Видно, что Гельмонт настаивает на теистической трансцендентности и отделении Бога от мира, чтобы дать монадам большую независимость; с другой стороны, он хочет сохранить самую тесную связь между Богом и миром и использует для этого Христа как промежуточное звено. Будучи изменчивым, Христос также должен состоять из души и тела, идеи и воли, хотя идея должна соответствовать спонтанности, а воля восприимчивости или пассивности. То, что именно изменчивость идеи и воли Бога по содержанию связывает неизменную сущность Бога с изменчивым содержанием мира, вполне правильная мысль; ошибка заключается лишь в том, что функции Бога, идея и воля, гипостазируются по отношению к сущности Бога как два отдельных вида субстанций, а сущность или субстанция Бога понимается как лишенная идеи и воли, детерминированно простая, вместо того чтобы объединить субстанциальную неизменность с функциональной изменчивостью в Боге. Это также положило бы конец принуждению представлять Бога и мир как неприкасаемые крайности; монады не стали бы частями Бога, но силы, в которых состоит их так называемая субстанция, стали бы тогда частичными функциями божественной воли. Как бы то ни было, семя доктрины монад, посаженное Бруно, под молодым присмотром Гельмонта превратилось в статное дерево, а динамический взгляд на материю приобрел однозначную форму. Таким образом, Гельмонт заложил фундамент, на котором Лейбниц, который, по-видимому, почти не знал Бруно непосредственно, продолжал строить при его личном содействии.
Если младший Гельмонт искал сущностное единство разума и тела в том, что оба они являются лишь постепенно различными проявлениями одной и той же активной силы или одной и той же способности к развитию, или членами отношений внутри субстанции, лежащей в основе обоих, то Анри Мор (1614—1687) и Ральф Кадворт (1617—1688) пытались решить вопрос о сущностном единстве Бога и тела более односторонне. Мор двигался в материалистическом течении Гассенди и Гоббса, Кадворт в спиритуалистическом течении Беркли и Кольера; первый способствовал распространению материализма, второй влиянию идеалистической школы Лейбница. Первые стремились понять духов как протяженные субстанции четырехкратного расширения, вторые компоненты физического мира как, так сказать, мыслящие субстанции. Каббалистический пантеист Мор считает непроницаемость тел следствием того, что они имеют только три измерения, в то время как дух соприкасается со всеми частями трехмерного тела в результате обладания четвертым измерением. Здесь ему нужен образ освещенной изнутри сферы, поверхность которой передает внешнее и низшее, а центр внутреннее и высшее знание. Все тела пронизаны такими духами; на низших уровнях они называются зародышевыми формами, на высших душами, на высших мировым духом или мировой душой. Кадворт отдает дань «исправленному гилозоизму»; подобно старшему Гельмонту, он связывает парацельсианского Архея с его пластической природой и придает ему мышление как существенное качество, при условии, что оно не понимается как сознательное мышление. Подобным мыслящим принципом жизни обладают и все высшие существа, например, планеты, даже если их мышление более сопоставимо с нашим сновидением или инстинктивным поведением животных.
IV. Новая метафизика. Характер и организация
Новая философия XVII и XVIII веков оставила позади себя борьбу с аристотелианством, наложившую отпечаток на весь предшествующий период. Только Бэкон из Верулама вновь суммирует аргументы грамматиков и натурфилософов против логики и физики Аристотеля, хотя сам он все еще находится под влиянием Аристотеля в своих метафизических взглядах на материю и форму, и тем самым доказывает, что в этих двух отношениях он все еще принадлежит к предыдущему периоду. Новая философия ищет истину независимыми путями и в основном завершила свое освобождение от церковной доктрины, хотя вера в Бога пока остается нетронутой, а догмы все еще оказывают часто незаметное влияние на философские взгляды. В отличие от языческих систем, которые были преодолены и оставлены, более современная философия, по крайней мере, философия XVII века, любит представлять себя как чисто христианскую философию. – Она основана на математике и физике в большей степени, чем философия более раннего периода. Математика основана на интеллектуальном, рациональном мышлении; поэтому философия, основанная на математике, в основе своей рационалистична. Физика основана на чувственно данном или сенсорном опыте; поэтому философия, основанная на ней, по сути, является сенсуалистической и в то же время эмпирической в той мере, в какой сенсуалистический скептицизм не колеблет концепцию опыта. И та, и другая по сути своей озабочены пересмотром категорий, который, однако, происходит по-разному в зависимости от их предпосылок. Рационалистическое направление ведет через дуализм протяженной и мыслящей субстанции к монистическому и тождественно-философскому переосмыслению категорий субстанции и причинности; сенсуалистическое направление, напротив, логически ведет к полному растворению категорий. В первый период дуализм рационалистической тенденции оказывает влияние на сенсуалистическую тенденцию и ускоряет происходящий в ней процесс разложения категорий; в последний период сенсуализм оказывает влияние на эпигонов рационализма и приводит к слабым эклектическим попыткам. Философски значимый синтез между сенсуалистическим скептицизмом и рационализмом возникает только у мыслителя, с которого начинается новая эпоха, новейшая метафизика, – у Канта.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:



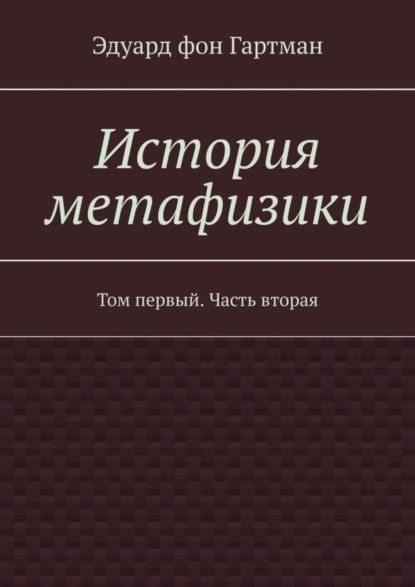




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0