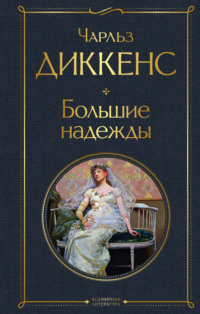
Большие надежды
То были не слова, а некая пантомима, которую он разыграл специально для меня. Он специально для меня помешал в стакане и специально для меня попробовал свой ром с водой, причем и пробовал он его и помешивал не ложкой, которую ему подали, а подпилком.
Он сделал это так, что никто, кроме меня, подпилка не видел, и тут же вытер его и спрятал в карман. Но я мгновенно понял, что это подпилок Джо и что странный человек знаком с моим каторжником. Как завороженный, я сидел и смотрел на него, но он, словно забыв о моем существовании, развалился на скамье и безмятежно беседовал, главным образом о кормовой репе.
Субботними вечерами на нашу деревню нисходило сладостное чувство, – словно все дела сделаны и можно спокойно передохнуть перед тем, как жить дальше, – и, поддаваясь этому чувству, Джо осмеливался по субботам засиживаться в трактире на полчаса дольше, чем в другие дни. Когда же эти полчаса и ром с водой одновременно подошли к концу, он поднялся и взял меня за руку.
– Одну минутку, мистер Гарджери, – сказал незнакомец. – Кажется, у меня где-то есть блестящий новенький шиллинг; если это так, ваш мальчик его сейчас получит.
Он вытащил из кармана горсть мелочи, порылся в ней и, найдя шиллинг, завернул его в какую-то смятую бумажку и вложил мне в руку.
– Это тебе, – сказал он. – Помни: тебе и никому другому.
Я поблагодарил, вытаращив на него глаза вопреки всем правилам приличия и крепко держась за Джо. Он попрощался с Джо, попрощался с мистером Уопслом, который уходил вместе с нами, а на меня только посмотрел своим нацеленным глазом, – нет, даже не посмотрел, потому что глаз у него был прищурен, но чего только не выразит глаз, если его закрыть!
Будь у меня желание поговорить, я мог бы болтать без умолку до самого дома, ибо мистер Уопсл расстался с нами у двери «Трех веселых матросов», а Джо всю дорогу держал рот широко открытым, чтобы как можно основательнее выветрить из него запах рома. Но я был ошеломлен тем, как внезапно всплыли из прошлого мое давнишнее преступление и мой давнишний знакомец, и ни о чем другом не мог думать.
Переступив порог кухни, мы застали мою сестру в не особенно скверном расположении духа, и это необычайное обстоятельство побудило Джо рассказать ей про новенький шиллинг.
– Бьюсь об заклад, что фальшивый, – торжествующе заявила сестра, – иначе с какой стати он дал бы его мальчишке? А ну-ка, покажи.
Я развернул бумажку, шиллинг оказался не фальшивый.
– А это что такое? – сказала миссис Джо, бросив его на стол и хватая бумажку. – Два билета по фунту стерлингов?
Да, именно так, – два засаленных билета по фунту стерлингов, казалось, обошедших на своем веку все скотопригонные рынки графства. Джо схватил шапку и побежал к «Трем веселым матросам» вернуть деньги владельцу. А я, в ожидании его, уселся на свою скамеечку и рассеянно поглядывал на сестру, говоря себе, что незнакомца наверняка не окажется на месте.
Вскоре Джо возвратился с известием, что тот человек ушел, но что он, Джо, велел передать, где он может получить свои деньги. Тогда сестра крепко обернула их бумагой и положила под сухие розовые лепестки в чайник, украшавший собою верхнюю полку буфета в парадной гостиной. Там они и остались лежать и мучили меня, как тяжелый сон, в течение многих дней и ночей.
Я пошел спать, но почти не сомкнул глаз до утра, вспоминая, как незнакомец целился в меня из невидимого ружья, и терзаясь тем, какое я грубое, низкое существо, раз мог войти в тайные сношения с каторжниками, – ведь я совсем было успел забыть об этом постыдном случае. И подпилок не давал мне покоя. Меня преследовал страх, что он вдруг опять появится в самую неожиданную минуту. В конце концов я заставил себя заснуть, думая о том, как я в среду пойду к мисс Хэвишем; но мне приснилось, что в комнату входит подпилок, а кто его держит – не видно, и я закричал так громко, что снова проснулся.
Глава XI
В назначенное время я был около дома мисс Хэвишем, и на мой робкий звонок к калитке вышла Эстелла. Впустив меня, она, как и в первый раз, заперла калитку и предоставила мне следовать за собой в темную прихожую, где стояла ее свеча. Казалось, она вовсе не замечала меня и только сейчас оглянулась через плечо, сказала надменно: «Сегодня ты пойдешь вот сюда», и повела меня совсем в другую часть дома.
Коридор был длинный, – очевидно, он огибал весь первый этаж. Однако мы прошли только вдоль одной стороны, и здесь Эстелла остановилась, поставила свечу и отворила какую-то дверь. Дневной свет ударил мне в лицо, я очутился в небольшом мощеном дворике, противоположную сторону которого замыкал флигель, когда-то, видимо, принадлежавший управляющему заброшенной пивоварней. В стену флигеля вделаны были часы. Так же, как большие часы в комнате мисс Хэвишем и как ее золотые часики, они показывали без двадцати минут девять.
Через отворенную дверь мы прошли в мрачную низкую комнату на первом этаже. Здесь сидели несколько человек гостей, и Эстелла присоединилась к ним, бросив на ходу: «Ты постой вон там, мальчик, пока тебя позовут». Поскольку «Вон там» означало у окна, я проследовал к окну и с ощущением величайшей неловкости уткнулся носом в стекло.
Окно приходилось на уровне земли и смотрело в самый неприглядный уголок запущенного сада, где из грядок торчали гниющие остатки капустных кочанов и одинокий куст самшита. Когда-то, давным-давно, он был подстрижен в виде пудинга, а теперь из него лезли кверху новые ветки другого цвета, точно пудинг в этом месте пристал к форме и подгорел, – это нехитрое сравнение пришло мне в голову, пока я глядел на старый самшитовый куст. Накануне выпал снежок, но везде он как будто успел растаять; только в этом глухом уголке, куда не проникало солнце, снег еще залежался, и ветер подхватывал его и горстями швырял в окно, словно норовил ударить меня за то, что я посмел сюда прийти.
Я чувствовал, что при моем появлении люди, сидевшие в комнате, прекратили начатый разговор и теперь смотрят на меня. Комнату мне не было видно, я видел только отсвет камина в оконном стекле, но от сознания, что меня внимательно разглядывают, я весь сжался и закостенел.
В комнате сидели три леди и один джентльмен. Я не простоял у окна и пяти минут, как у меня сложилось впечатление, что все они – подхалимы и жулики, но что каждый из них делает вид, будто не знает, что остальные – подхалимы и жулики, потому что, признав это, каждый тем самым должен был и себя причислить к подхалимам и жуликам.
Казалось, все они скучают и томятся, ожидая, когда кто-то соизволит заметить их присутствие, а самая разговорчивая из трех леди нарочно растягивала слова, чтобы сдержать зевоту. Леди эта, которую называли Камилла, очень напомнила мне мою сестру, только она была постарше и (как я убедился, когда разглядел ее) с менее резкими чертами лица. Впрочем, узнав ее поближе, я подумал: хорошо еще, что у нее есть хоть какие-нибудь черты, – так похоже было ее лицо на глухую стену.
– Бедняга! – сказала эта леди отрывисто и сердито, точь-в-точь как моя сестра. – Он этим только самому себе вредит.
– Лучше бы он вредил кому-нибудь другому, – сказал джентльмен. – Это гораздо естественнее и разумнее.
– Кузен Рэймонд, – возразила другая леди, – ведь мы должны любить своих ближних.
– Сара Покет, – отвечал кузен Рэймонд, – кто же человеку ближе, чем он сам?
Мисс Покет засмеялась, и Камилла тоже засмеялась и сказала (сдерживая зевок):
– Надо же выдумать такое!
Но мне показалось, что выдумка-то им понравилась. Третья леди, до тех пор молчавшая, сказала сурово и с убеждением:
– Совершенно верно!
– Бедняга! – продолжала Камилла после некоторого молчания. (Я знал, что, пока оно длилось, все они смотрели на меня.) Он такой странный! Вы не поверите, когда у Тома умерла жена, ему невозможно было втолковать, что девочкам просто необходимы траурные платья с плерезами. «Ах, боже мой, Камилла, – сказал он, – не все ли равно, лишь бы бедные сиротки были в черном!» Это так похоже на Мэтью. Ведь надо же выдумать такое!
– В нем есть хорошие стороны, есть хорошие стороны, – сказал кузен Рэймонд. – Я этого не отрицаю, боже сохрани, но у него никогда не было и не будет ни малейшего понятия о приличиях.
– Поверите ли, – продолжала Камилла, – я была вынуждена, просто вынуждена была настоять на своем. Я сказала: «Нет, мне дорог престиж семьи, и я этого не допущу». Я ему прямо заявила, что, если не будет платьев с плерезами, это набросит тень на всю семью. Я твердила об этом не переставая, с завтрака и до обеда. Я расстроила себе пищеварение. В конце концов он вспылил, как это свойственно его несдержанной натуре, и сказал: «Делай как знаешь», и даже прибавил одно очень некрасивое слово. Но мне до конца дней будет утешением, что я в ту же минуту вышла из дому под проливным дождем и купила все, что нужно.
– А заплатил, вероятно, он? – спросила Эстелла.
– Неважно, кто заплатил, дитя мое, – отвечала Камилла. – Купила все я. И еще не раз, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать об этом с удовлетворением.
Тут все замолчали, услышав далекий звон колокольчика и чей-то оклик, эхом отдавшийся в коридоре, по которому мы пришли, и Эстелла сказала: «Пойдем, мальчик!» Когда я обернулся, все они посмотрели на меня с величайшим презрением, и, выходя из комнаты, я услышал слова Сары Покет: «Ну, знаете ли, это уж слишком!» – и негодующее восклицание Камиллы: «Ведь надо же выдумать такое!»
Мы быстро шли со свечой по темному коридору, но вдруг Эстелла остановилась и, круто повернувшись, так что лицо ее оказалось вплотную к моему, сказала задорно:
– Ну что?
– Ничего, мисс, – отвечал я, чуть не налетев на нее с разбегу.
Она стояла и смотрела на меня, а я, естественно, смотрел на нее.
– Так я красивая?
– Да, по-моему, очень красивая.
– И злая?
– Не такая, как в тот раз.
– Не такая?
– Нет.
Задавая последний вопрос, она вспыхнула, а услышав мой ответ, изо всей силы ударила меня по лицу.
– Ну? – сказала она. – Что ты теперь обо мне думаешь, заморыш несчастный?
– Не скажу.
– Потому что хочешь нажаловаться там, наверху. Так?
– Нет, не так.
– Почему ты сегодня не плачешь, гаденыш?
– Потому что я никогда больше не буду из-за вас плакать, – сказал я. И бессовестно солгал: уже тогда я горько плакал в душе, а сколько мне пришлось выстрадать из-за нее в позднейшие годы, о том знаю я один.
После этой задержки мы пошли дальше и, поднимаясь по лестнице, чуть не столкнулись с каким-то джентльменом, который ощупью спускался нам навстречу.
– Это кто же у нас тут? – спросил джентльмен, останавливаясь и глядя на меня.
– Один мальчик, – сказала Эстелла.
Передо мной стоял плотный мужчина, необычайно смуглый, с необычайно крупной головой и такими же руками. Он взял меня своей большой рукой за подбородок и повернул лицом к свету, падавшему от свечи. У него была лысая, не по годам, макушка, черные мохнатые брови упрямо топорщились. Глаза, очень глубоко посаженные, глядели недоверчиво и проницательно, словно видели меня насквозь. Из кармашка у него свисала массивная цепочка от часов, а лицо, там, где росли бы усы и борода, если бы он их не брил, было усеяно черными точками. Это был посторонний для меня человек, я не мог предвидеть тогда, что он будет что-то для меня значить, но случайно мне представилась возможность как следует разглядеть его.
– Деревенский мальчик, да? – сказал он.
– Да, сэр, – сказал я.
– Как же ты здесь очутился?
– Мисс Хэвишем за мной послала, сэр, – объяснил я.
– Ну, веди себя хорошо. Я кое-что знаю о мальчиках и могу сказать – народец вы неважный. Так помни! – повторил он, строго глядя на меня и покусывая свой длинный указательный палец. – Веди себя хорошо!
С этими словами он отпустил меня (чему я очень обрадовался, потому что рука его неприятно пахла душистым мылом) и пошел дальше, вниз по лестнице. Сначала я по-думал, что это, может быть, доктор, но потом решил – нет, доктор был бы спокойнее и обходительнее. Впрочем, долго размышлять над этим мне не пришлось, потому что мы уже входили в комнату мисс Хэвишем, где все, начиная с нее самой, было в точности таким же, как несколько дней назад, когда я уходил отсюда. Эстелла покинула меня у двери, и я стоял молча, покуда мисс Хэвишем не увидела меня со своего места у туалетного стола.
– Так! – сказала она, не выказав ни испуга, ни удивления. – Значит, дни пробежали?
– Да, мэм. Нынче уже…
– Не надо, не надо! – Пальцы нетерпеливо зашевелились. – Я не хочу знать. Играть ты сегодня можешь?
Я растерялся и вынужден был ответить:
– Наверно, нет, мэм.
– А в карты, как тогда? – спросила она, пытливо взглянув на меня.
– В карты могу, мэм, если вы прикажете.
– Раз в этом доме ты не чувствуешь себя ребенком, – в голосе мисс Хэвишем послышалась досада, – и раз тебе не хочется играть, может быть, хочешь поработать?
Этот вопрос пришелся мне куда больше по душе, чем предыдущий, и я сказал, что с удовольствием поработаю.
– Тогда пройди вон в ту комнату, – сказала она, указывая морщинистой рукой на дверь, которую я еще не успел затворить, – и подожди меня там.
Я послушался и отворил другую дверь, через площадку. Из этой комнаты дневной свет был тоже изгнан, и воздух в ней был тяжелый и спертый. В старомодном отсыревшем камине, как видно, только что зажгли огонь, но он более склонен был погаснуть, чем разгореться, и дым, лениво повисший над ним, казался холоднее воздуха – как туман на наших болотах. С высокой каминной полки несколько свечей, похожих на голые ветки, едва освещали комнату, вернее – едва рассеивали царившую в ней тьму. Это была просторная зала, когда-то, вероятно, богато убранная; но сейчас все предметы, какие я мог в ней различить, вконец обветшали, покрылись пылью и плесенью. На самом видном месте стоял стол, застланный скатертью, – в то время, когда все часы и вся жизнь в доме внезапно остановились, здесь, видно, готовился пир. Посредине стола красовалось нечто вроде вазы, так густо обвешанной паутиной, что не было возможности разобрать, какой оно формы; и, глядя на желтую ширь скатерти, из которой ваза эта, казалось, вырастала как большой черный гриб, я увидел толстых, раздувшихся пауков с пятнистыми лапками, спешивших в это свое убежище и снова выбегавших оттуда, словно бы в паучьем мире только что разнеслась весть о каком-то в высшей степени важном происшествии.
А за обшивкой стен слышалась мышиная возня, – видно, и мышей это событие тоже близко касалось. Зато черные тараканы не обращали ни малейшего внимания на всю эту суету; они не спеша, по-стариковски, бродили возле камина, словно были подслеповаты и туги на ухо и к тому же не ладили между собой.
Завороженный видом этих ползучих тварей, я издали наблюдал за ними, как вдруг почувствовал, что мисс Хэвишем положила руку мне на плечо. Другой рукой она опиралась на толстую клюку – ни дать ни взять колдунья, страшная хозяйка этих мест.
– Вот здесь, – сказала она, указывая клюкой на длинный стол, – здесь меня положат, когда я умру. А они придут и будут смотреть на меня.
Охваченный смутным опасением, как бы она тут же не улеглась на стол и не умерла, окончательно уподобившись той жуткой восковой фигуре на ярмарке, я весь сжался от прикосновения ее руки.
– Как ты думаешь, что это такое? – спросила она, снова указывая клюкой на стол. – Вот это, где паутина.
– Не знаю, мэм, не могу догадаться.
– Это большой пирог. Свадебный пирог. Мой.
Она горящими глазами оглядела комнату, а потом сказала, крепко опершись рукой о мое плечо:
– Ну, пойдем скорее! Веди меня, веди!
Из ее слов я заключил, что это и будет моя работа – водить мисс Хэвишем по комнате, все кругом и кругом. Я не стал мешкать, и мы пустились в путь так бодро, словно задались целью (во исполнение шальной мысли, мелькнувшей у меня в тот раз) изобразить лошадку мистера Памблчука.
Сил у мисс Хэвишем было немного, и скоро она сказала: «Потише!», но мы все же подвигались вперед судорожным, неровным аллюром, и рука ее, лежавшая у меня на плече, подрагивала, а губы кривились, и этим она внушала мне, что мы быстро бежим, потому что мысли ее бежали быстро. Наконец она сказала: «Позови Эстеллу!», и я вышел на площадку и стал во весь голос кликать ее, как и в прошлый раз. Когда вдали показалась ее свеча, я возвратился к мисс Хэвишем, и мы снова затрусили по комнате, все кругом и кругом.
Будь Эстелла единственным свидетелем нашего времяпрепровождения, мне и то было бы достаточно неловко; но она привела с собой тех трех леди и джентльмена, которых я видел внизу, и я просто не знал куда деваться. Из вежливости я хотел было остановиться, однако мисс Хэвишем больно сжала мое плечо, мы понеслись дальше, и я сгорал от стыда, чувствуя, что они видят во мне виновника этой затеи.
– Дорогая мисс Хэвишем, вы прекрасно выглядите, – сказала Сара Покет.
– Неправда, – отвечала мисс Хэвишем. – Только и есть, что желтая кожа да кости.
Камилла так и расцвела, услышав, какой отпор встретила мисс Покет, и жалобно простонала, бросая на мисс Хэвишем сострадательные взгляды:
– Ах, бедненькая! Ну где ей, бедняжке, хорошо выглядеть? Надо же выдумать такое!
– А вы как поживаете? – обратилась мисс Хэвишем к Камилле. В это время мы как раз проходили мимо нее, и я хотел остановиться, но мисс Хэвишем не пожелала останавливаться. Мы проследовали дальше, и я почувствовал, что Камилла воспылала ко мне ненавистью.
– Благодарю вас, мисс Хэвишем, – отвечала она, – я здорова, насколько это для меня возможно.
– А что с вами? – спросила мисс Хэвишем далеко не любезным тоном.
– Ничего такого, о чем бы стоило упоминать, – отвечала Камилла. – Я стараюсь не выставлять напоказ свои чувства, но последнее время я столько думаю о вас по ночам, что это не может не отразиться на моем здоровье.
– Так не думайте обо мне, – отрезала мисс Хэвишем.
– Легко сказать! – нежно возразила Камилла и всхлипнула, причем верхняя губа ее приподнялась, а из глаз брызнули слезы. – Вот и Рэймонд скажет, сколько имбирной настойки и нюхательной соли мне приходится ставить на ночь возле кровати. Рэймонд вам скажет, как часто ноги у меня сводит нервная судорога. Впрочем, и спазмы и нервные судороги – самая обычная для меня вещь, когда меня терзает беспокойство о тех, кого я люблю. Не будь я столь привязчива и чувствительна, у меня было бы прекрасное пищеварение и железные нервы. Ничего лучшего я бы и не желала. Но не тревожиться о вас по ночам… нет, надо же выдумать такое! – И она залилась слезами.
Я решил, что «Рэймонд» и есть тот джентльмен, которого я перед собой вижу, и что это не кто иной, как мистер Камилла. Он тотчас поспешил на помощь своей супруге и сладким голосом стал ее успокаивать:
– Камилла, дорогая моя, всем известно, что ваши родственные чувства вас подтачивают так, что одна нога у вас уже стала короче другой.
– Я бы не сказала, моя милая, – заметила суровая леди, чей голос я до этого слышал всего один раз, – что, думая о ком-нибудь, мы тем самым получаем право чего-то ожидать от этого человека.
Мисс Сара Покет, которую я лишь теперь рассмотрел, – маленькая, сухонькая, сморщенная старушка с коричневым личиком, точно склеенным из скорлупок грецкого ореха, и большим ртом, похожим на кошачий, только без усов, – присоединилась к этому мнению, заявив:
– Ну, разумеется, нет, моя милая! Хм!
– Думать – это нетрудно, – продолжала суровая леди.
– Это легче легкого, – подтвердила мисс Сара Покет.
– Да, конечно, конечно! – вскричала Камилла, чьи накипевшие чувства, видимо, переместились из ее ног в бурно вздымавшуюся грудь. – Вы тысячу раз правы! Нельзя быть такой чувствительной, но я ничего не могу с собой поделать. Я знаю, что гублю свое здоровье, и все же я не хотела бы стать другой, даже если бы могла. Страдания мои ужасны, но, просыпаясь по ночам, я нахожу утешение в том, что я именно такая. – И она опять разрыдалась.
За все это время мисс Хэвишем ни разу не остановилась, – мы продолжали ходить по комнате все кругом и кругом, то чуть не задевая гостей, то отдаляясь от них на всю длину мрачной залы.
– Но каков Мэтью! – воскликнула Камилла. – Забыть о тех, кто ему всего ближе, ни разу не справиться, как чувствует себя мисс Хэвишем! Я иногда лежу на диване, расшнуровав корсет, лежу часами без чувств, голова у меня закинута, волосы в беспорядке, а ноги даже не знаю где…
(– Значительно выше, чем голова, моя радость, – вставил мистер Камилла.)
– …лежу в таком состоянии часами, буквально часами, – а все из-за неестественного, необъяснимого поведения Мэтью, – и хоть бы слово благодарности от кого-нибудь услышала.
– Не вижу в этом ничего удивительного, – заметила суровая леди.
– Видите ли, дорогая, – добавила мисс Сара Покет (особа тихая, но ехидная), – вам бы следовало спросить себя, от кого вы, душечка, ожидаете благодарности.
– Не ожидая ни от кого благодарности, – продолжала Камилла, – я лежу в таком состоянии часами, вот и Рэймонд вам скажет, что я буквально задыхаюсь, и имбирная настойка уже мне не помогает, а однажды меня услышали через улицу у настройщика, и его бедные невинные детки подумали, что это голуби воркуют под крышей, и когда после этого мне говорят… – Тут Камилла поднесла руку к горлу, и оттуда полились звуки, столь же сложные по своему составу, как новые химические соединения.
Услышав имя Мэтью, мисс Хэвишем остановила меня, остановилась сама и стала пристально смотреть на говорившую. Под действием этого взгляда химическая деятельность Камиллы внезапно прекратилась.
– Мэтью придет ко мне тогда, – сказала мисс Хэвишем строгим голосом, – когда я буду лежать на этом столе. Вот где будет его место, – она ударила по столу клюкой, – вот здесь, у меня в головах. А вы будете стоять здесь! А ваш муж – здесь! А Сара Покет – здесь! А Джорджиана – здесь! Ну, вот вы все и знаете, где вам стоять, когда вы придете пировать над моим трупом. А теперь уходите!
Называя их по именам, она каждый раз ударяла клюкою стол в новом месте. Потом сказала:
– Веди меня, веди! – И мы снова пустились в путь.
– По-видимому, нам ничего не остается, – воскликнула Камилла, – как повиноваться и разойтись! Спасибо и на том, что я повидала предмет моей любви и родственного долга. Как ни кратко было это свидание, но, просыпаясь по ночам, я буду вспоминать о нем с грустью и отрадой. Ах, если бы это утешение было дано Мэтью! Но он сам от него отказывается. Я раз навсегда решила не выставлять напоказ мои чувства, но как это тяжело, когда тебе говорят, что ты жаждешь пировать над трупами своих родных, – точно ты людоед из сказки! – и когда тебя гонят прочь! Надо же выдумать такое!
Миссис Камилла уже прижала руку к своей вздымающейся груди, но тут ее подхватил мистер Камилла, и достойная леди, придав своему лицу выражение нечеловеческой твердости, – в котором ясно сквозило намерение упасть замертво, едва выйдя за дверь, – послала мисс Хэвишем воздушный поцелуй и дала себя увести. Сара Покет и Джорджиана попробовали было потягаться – кто останется в комнате последней; но перехитрить Сару было нелегко, она так ловко семенила вокруг Джорджианы, незаметно подталкивая ее к двери, что той пришлось-таки уйти первой. После этого ничто не мешало Саре Покет и самой удалиться, выразительно вздохнув на прощанье: «Да хранит вас бог, дорогая мисс Хэвишем!» – и изобразив на своем ореховом личике улыбку, говорившую яснее слов, что она по-христиански прощает остальным их слабости и заблуждения.
Эстелла, взяв свечу, пошла проводить их вниз, а мисс Хэвишем еще некоторое время ходила, опираясь на мое плечо, но уже все медленнее и медленнее. Наконец она остановилась перед камином, постояла, бормоча что-то про себя, и сказала:
– Сегодня день моего рожденья, Пип.
Я хотел поздравить ее, но она угрожающе подняла палку.
– Я не разрешаю об этом говорить. Не разрешаю ни тем, что сейчас были здесь, ни кому-либо другому. Они приходят сюда в этот день, но упоминать о нем не смеют.
Я, разумеется, тоже не стал больше о нем упоминать.
– В этот самый день, задолго до того, как ты родился, вот эту гниль, – она махнула клюкой по направлению кучи паутины на столе, – принесли и поставили здесь. Мы состарились вместе. Пирог сглодали мыши, а меня гложут зубы острее мышиных.
Она смотрела на стол, прижав к груди свою палку, – в желтом, поблекшем, когда-то белом платье, смотрела на желтую, поблекшую, когда-то белую скатерть, и казалось, – все вокруг только ждет чьего-то прикосновения, чтобы рассыпаться в прах.
– Когда разрушение станет полным, – глаза мисс Хэвишем загорелись зловещим огнем, – когда меня мертвую, в подвенечном уборе, положат на свадебный стол, – пусть ему это послужит последним проклятием! – хорошо бы и это случилось в день моего рожденья.
Она смотрела на стол так, словно видела на нем себя, мертвую. Я молчал. Эстелла, воротившаяся снизу, тоже молчала. Мне казалось, что мы стоим так очень долго. Удрученный спертым воздухом комнаты, тяжелым мраком, притаившимся в ее углах, я испытывал тревожное ощущение, что и Эстелла и сам я тоже вот-вот начнем разрушаться.

