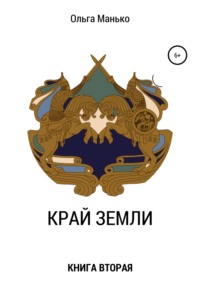
Край Земли. Книга вторая

«Как пряму ехати – живу не бывати»
Глава I
Долго ли коротко, близко ли далёко шли Ерёма, Стёпка и Соловей-Разбойник. Вёрстам уж счет потеряли. День сменялся ночью, поля переходили в леса, деревни в города. Промозглая осень оттеснила лето, пригнув тяжёлыми тучами уставшее небо. С понурых ветвей падала пожелтевшая листва. Прильнув к земле, она пыталась уберечь её от осеннего холода. Вместо беззаботного щебета птиц в посеревших небесах слышался прощальный крик стай, улетающих в тёплые края.
Соловей-Разбойник поправил увесистый короб на плече:
– Безалаберный ты, Ерёмка. Кабы не я, от голода пропали бы вы со Стёпкой.
– Не тяжко ли, Разбойник, увесистый туесок на спине таскать? – отозвался гонец.
– Своя ноша не тянет, – назидательно ответил тот. – Погляжу на вас, когда достану каравай.
– Окорок, небось, тоже найдется?– облизываясь, спросил Стёпка.
– Ха! У меня ещё и яблочки моченные в наличии имеются. Право слово, я такой хозяйственный, что сам на себя нарадоваться не могу! – весело ответил Разбойник.
– Я прежде думал, что ты токмо честных людей умеешь пугать, а вона какая домовитость в тебе имеется, – с уважением произнес Ерёмка.
– Оно, когда на дубе сидишь, да свистишь, то ветер в голове гуляет и шибко на озорство тянет. А ежели делом добрым занят, то и мысли дельными становятся.
– Сколько же нам ещё идти? – спросил Стёпка. – Что-то Земля у нас бескрайняя. Пустое навыдумывал царь Дорофей, а мы отдувайся.
– Приказ царский надобно исполнить, а то соромно домой возвращаться. Слово-то я дал крепкое гонцовское: найти Край Земли.
– Ну, ежели так, – понимающе согласился Разбойник, – то надоть слово держать.
Стёпка побежал вперёд. Некоторое время Ерёма и Соловей-Разбойник шли молча. Ноги скользили по слякотной дороге. Под мелким дождём Ерёмкина рубаха вмиг промокла. Разбойник шёл ходко, беззаботно посвистывая, нипочём была ему непогода. Сырой ветер, подхватив листву, закрутил её.
– Глянь, Еремейка, словно ладошки машут листочки – с летом прощаются. Ветер их треплет, треплет, пугает скорыми холодами. Смотри, смотри, гриб из-под хвои выглядывает. Напыжился на зиму подбирающуюся. Дорога под ногой хлюпает, будто баба плачущая, а лужи, слово глаза слезами наполненные. Жалеют, небось, о солнышке и тепле.
– Цветистыми прозопопеями изъясняешься, Соловей, точь-в-точь пиит, – почтительно отозвался Ерёма. – При дворе Дорофея есть стихоплет, но жидковат он супротив тебя. Может, пойдешь на государеву службу, будешь Дорофею оды с панегириками слагать?
– Чтобы я да в услужение? – возмутился Разбойник и вдруг насторожился. – Чуешь? Шумит кто-то.
– Никак Стёпкин голос? – всполошился гонец.
Разбойник крякнул:
– Куда нелегкая занесла неугомонного? – и, поправив короб на спине, побежал на голос.
Ерёмка, подтянув лапти-скороходы, помчался следом. Однако Соловей бежал проворнее.
– Эй, подожди, – прокричал гонец Разбойнику.
– Шибче, шибче давай!
Ерёма проворчал:
– Дык я в лаптях-скороходах за тобой не поспеваю.
Разбойник оглянулся и хитро подмигнул:
– Дык ты в лаптях-скороходах, а я в сапогах семимильных.
– Несправедливость выходит. Не по чину тебе сапоги. Мне они надобны. Я скороход, – пробубнил Ерёмка, наступив в лужу.
– Я тебе свистульку звонкую подарю, чтобы ты не по чину свистеть мог. И будем в расчете, – хохотнул Разбойник и скрылся за поворотом.
Гонец вздохнув, поспешил следом.
Через малое время Ерёмка нагнал Соловья. Тот уже сидел рядом со Стёпкой, издающим истошные вопли.
– Стёпушка, голубчик, почто столь жалостливо надрываешься, ажно душа моя бездушная сокрушается по тебе? – спрашивал Соловей. – Что за кручина с тобой приключилась?
Пёс, будто не слыша Разбойника, надсадно выл. Ерёма дернул Стёпку за ухо:
– Ты чего это разорался, лопоухий? Иной забавы нет?
– Какая уж тут забава, – с трудом проговорил пёс. – Беда большая впереди… Ох беда, беда, беда!
Ерёма огляделся. Дорогу перегородил камень, за ним легла серая омертвелая пустошь. Тянулась она бескрайно, единственное украшение – бурые колючки торчащие клочками. По эту сторону шёл дождь, за камнем над пустошью суховей поднимал белёсую пыль.
– М-да, – Ерёмка почесал затылок, – смурная картинка.
– Беда, беда, беда, – причитал Стёпка.
– Да где беда-то? – рассердился Ерёма. – Никого вокруг на сто вёрст!
– За камнем большая беда, – завыл пёс с новой силой.
– Эй, гонец, отстань от Стёпки. Пусть поорет, ежели душа того требует. Лучше глянь, какие-то буковки на камне нацарапаны.
– Так почитай, – отмахнулся Ерёма, вглядываясь вдаль.
Соловей-Разбойник стушевался, но принялся читать:
– Как му ех ву не ти не ти ни охо ему, ни ое ему, ни олетному.
– Что это ты по басурмански залопотал?
– Грамоте-то я не сильно обучен. Какие буковки знал, те и прочитал, – засмущался Разбойник.
– В таком разе отойди, не закрывай обзор, – важно произнес Ерёма и прикоснулся к камню, чтобы стряхнуть дорожную пыль.
Чёрный валун задрожал под рукой, из недр его раздался сдавленный звук, будто пел кто-то, но пел, задыхаясь, с болью. Уродливые трещины, поползли по поверхности и, замысловато переплетаясь меж собой, превратились в письмена. В них из глубоких каменных борозд, будто из живых ран засочилась горячая красная кровь. На чёрном валуне ясно проявилась надпись:
– Как пряму ехати – живу не бывати – нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролётному.
После письмена будто покрылись мутноватой слюдой, чрез неё шло завораживающее рубиновое мерцание букв. Стёпка, поджав хвост, прибился к ногам Соловья-Разбойника. На того же то ли от удивления, то ли испуга напала икота, которая мешала сказать хоть слово. Ерёмка не мигая, таращился на камень. Наконец Разбойник смог произнести:
– Ч-ик-тай!
Письмена на камне потускнели, трещины сомкнулись, и пред путниками вновь лежал валун в своем первозданном виде. Поверхность его выщербленная ливнями, местами выбеленная солнцем, сморщилась старческой кожей. Звук затих в глубине камня. Слышно было только, как дождь стучит по валуну.
Ерёма тряхнул головой:
– Ить, морок на меня навёл булыжник! Туточки не велено за камень идти. Беда большая будет.
– Да какая такая беда-то? – Разбойник всплеснул руками. – Заладили беда-беда. Берегись бед, пока их нет. А коли есть, то чего уж хвост поджимать?
– Как бы и твоя правда, Соловей, – согласился Ерёмка. – Но грозится каменюка жизни нас лишить.
– Это как? – вытаращил глаза Разбойник.
Затем недоверчиво посмотрел на Стёпку и Ерёмку, но на всякий случай подальше отошёл от камня:
– Одначе сомнения меня берут на слова твои, друг мой дорогой. От булыжника, что и говорить, может н'апасть нап′асть. Но, то токмо ежели на голову упадет, али под ногу подвернется. Сей каменюка хоть и чудной, не по-доброму чудной, но смирный. Лежит себе тихохонько, прохожих пугает.
– Сей камушек вещун, – подал голос Стёпка. – Ежели что скажет, то и сбывается.
Соловей-Разбойник прищурился и сверкнул жёлтым глазом:
– И чего навещал вещун?
Пёс подбежал к Разбойнику и присел рядышком:
– Дважды уже. Первый раз каменюка грозил нам, что коня потеряем.
– Вот это беда, – понимающе кивнул головой Разбойник. – От того и пешком ходите?
Ерёмка поежился от промокшей насквозь рубахи:
– Не, коня у нас не было. Так что урон не понесли.
– Токмо Бранибора от чар моренкиных избавили. Ну, ещё Ерёмушка поборолся с ним чуток. Моренке руку отсёк, а она и разобиделась на это дело.
– Получается, что и зла никакого не было, – подвел итог Разбойник. – А другой раз?
– Другой раз ты сам видел. Обещал камень, что себя забудем. Вот и попали мы в Землю Грёз.
– Так опять же ничего дурного не случилось, – задумался Разбойник. – Звон-Парамон видимость приобрел, да и мы целые вышли.
– А утоп я? Это как? Не считается? – обиженно надул губы Ерёмка. – По-вашему, утоп и утоп – потеха, мол.
Разбойник, вспомнив Ерёмку на дне реки, прыснул:
–И прям потеха!– и, не выдержав, покатился со смеху.
Он так заразительно смеялся, что Стёпка не удержался и тоже захихикал, вспоминая испуганного и мокрого Ерёмку.
– Небось, сам запамятовал, как в русала превратился? – покраснев от обиды, проворчал гонец. Затем став серьезным, сказал. – Дело каверзное тут. Можем не токмо коня лишиться, какого и не было, а жизни молодой.
– Не серчай, братишка, я не от зловредности характера, а от веселости, – Разбойник подошёл к Ерёмке и утешающе похлопал по плечу. – Ну, коль такие унылые мысли тебя одолевают, то путь у нас один – вперёд. Да и скучно понапрасну ноги стаптывать. Где тот Край Земли? Может, его и нет.
Гонец упрямо нахмурился:
– Должен быть Край Земли. Царь Дорофей не мог ошибиться. Да и что мы, зря столько верст отмахали?
Соловей-Разбойник пожал плечами:
– Должен, так должен. Слушай, Стёпка, здесь нам беда грозит, или где-то там, в непонятном месте?
Пёс деловито отряхнулся и сосредоточено принялся втягивать в себя воздух, пытаясь уловить все оттенки доносящихся издалека запахов. Потом глубоко задумался, закатив глаза. Разбойник и Ерёма терпеливо ждали. Пёс, казалось, впал в оцепенение, он даже не моргал. Первым не выдержал Разбойник:
– Да говори, Стёпка! То воет до невозможности, то слова не добьёшься.
Переведя дыхание, ещё чуток помолчав, пёс шепотом произнес:
– Дело тут путанное. За пустошью горе большое. Чувствую его, но точнее не скажу. Камень же сей необычный. Дух от него идет и живой, и пустой разом. Голос слышу, но голос слабый и нечеловеческий. Будто кто-то и поет, и плачет, а слов не разобрать.
Разбойник недоверчиво сверкнул лиловым глазом:
– Много я повидал на своем веку, но чтобы камень пел нечеловеческих голосом…
Затем на цыпочках, словно опасаясь, подошёл к валуну и приложил ухо. Некоторое время сосредоточено слушал, но ничего не услышал. Постучал по камню:
– Эй, есть кто? – и опять приложил ухо, чуток послушал и протянул разочаровано. – Шутковал ты, небось, Стёпка, молчит каменюка бесчувственная. Да и с какой такой радости ей рулады выводить?
– Есть там кто-то, – убеждённо заявил Стёпка. – Я царский порученец, а не пустобрёх. Ежели говорю, то по делу.
Разбойник хмыкнув, постучал по камню:
– Эге-гей, колодник, отзовись!
– Погодь, Разбойник, – обеспокоился Ерёма. – Чародейство, похоже, туточки. Не зря письмена на камне проявились, да сгинули бесследно.
Соловей отмахнулся:
– Ты меня чародействами не пугай, сам могу, кого хочешь застращать.
– Одначе бабы заполошной в Земле Грёз забоялся, – хихикнул Степан.
– Сравнил! – возмутился Соловей-Разбойник. – Там вправду страшно было. Не баба, а разрыв селезёнки, – и, увидев, что Ерёма полез в котомку за жар – пером, остановил его. – Погодь, без тебя найдется, кому разобраться. Токмо откатитесь со Стёпкой, дабы худа с вами не приключилось.
Пёс фыркнул:
– Нам ли бояться, коли самого Князя Мрака мы испепелили в труху?
– Ох, и балабол ты, Стёпка. Сказал же, откатись в сторонку! – Разбойник, схватив пса за холку, запихнул того в короб.– Сиди тихо!
– Занапрасно ты меня вот так без всякого респекта, – только и успел сказать Стёпка, как Соловей захлопнул крышку.
Ерёма попытался вступиться, но Разбойник так сверкнул на него лиловым глазом, что гонец, молча подхватив короб, стащил его с дороги. Сам залёг рядом. Разбойник бросил через плечо:
– Уши закрой, оглохнешь, паче чаяния!
Затем, набрав воздух в грудь, свистнул. От свиста того трава к земле пригнулась, сухие ветки посыпались с дерев. Короб в сторону отнесло, Стёпка жалобно тявкнул, да замолк. Гонец ползком добрался до короба, вцепился в него и замер. Соловей напрягся и свистнул другой раз. С валуна посыпалась каменная крошка, завертелась в круговерти, пронеслась мимо Ерёмки, оцарапав лицо ему. Валун треснул, но не рассыпался. Третий раз свистнул Соловей. Свист, словно гром небывалый прокатился окрест, земля дыбом встала, дубы и ёлки корнями наружу вывернуло. Эхом повторился свист, но зазвучал уже звонко, зазвенел струной натянутой. Рассыпался валун. Отлетели куски в стороны. Какие помельче, брызги подняв, в лужи упали. Большие в сыру землю ушли. А свист всё не умолкает, звенит эхом и не понять, как сие выходит. Поднялся Ерёма на ноги, глядит во все глаза. Стёпка из короба вылез, отряхнулся, хвост боязливо меж ног прижимает. Рассыпался валун до последнего камушка, до последней песчинки, и предстало пред ними диво дивное. Голова женская, лик чист, да печален. Глаза же пелена застит. Тело птичье. Оперение небеса грозовые напоминает, каждое перо своим цветом окрашено от иссиня-черного до лазурного, словно чрез тучи пугающие свет ясный пробивается. Одначе крылья связаны. Цепями ржавыми ноги спутаны.
– Кошки-матрёшки, кочережки в лукошке! – ахнул Соловей. – Что за невидаль? Ты девица али птица?
– Птица, птица… – раздалось эхо.
Стёпка ошёломленно прошептал;
– В птицу оборотился валун.
– Гамаюн, Гамаюн, – ответило эхо.
С трудом подняла голову птица Гамаюн, запела песнь протяжную, грустную. Слов не разобрать, только печалование в каждом звуке такое, что сердце холодит, душу плакать заставляет. Притихли Ерёма и Стёпка. Соловей рукавом глаза утёр, чтобы никто не заметил слезу наворачивающуюся, после тряхнул головой, от наваждения спасаясь, нахмурился:
– Ты этого того, уж не знаю, птица ты али девица, одначе уймись с кручинными песнопениями. Попервости рассупонить тебя надобно. А то всяк бы на твоем месте грусть-печаль разводил. Видать, не сама себя сковала-связала.
Опустила голову Птица Гамаюн и смолкла. Схватился Соловей за цепи железные, да порвать не может их. И так и этак тянет, руки в кровь ободрал, а цепи целёхоньки. Стёпка переживает, бегает вокруг, лает, советом помочь пытается, да только толку от его советов нет. Посмотрел-посмотрел Ерёма на товарищей, почесал в затылке, полез в котомку:
– Отойди, Соловей, теперича мой час.
Достал жар-перо, а от него свет идет мягкий перламутровый и будто солнышко осеннее ласково прикоснулось к каждому. По стёпкиной физиономии нежданно улыбка безмятежная расплылась. Черты лица Разбойника смягчились, зачарованно уставился он на серебристо – розовые переливы.
– Авось подарок Батюшки Солнца подмогнёт нам и в сей раз.
Направил жар-перо на Птицу Гамаюн. Свет жемчужный переливчатый окутал птицу. Отлетели цепи сами по себе. Веревки, крылья связывающие, соскользнули. Лазурь пробилась сквозь черноту, окрасив собой оперенье. Серебристо-белая окаёмка легла на трепетавшие крылья. Взглянула ясными глазами Птица Гамаюн, поклонилась:
– Спасибо вам, добры молодцы, за вызволение из плена каменного. Кабы не вы, век бы света не увидала, век бы песен не пела.
– Ну, мы на это дело мастаки, – заважничал Стёпка. – Не впервой.
– Погодьте, други! – вдруг встрепенулся Соловей. – Стало быть, я теперича вовсе и не разбойник, а напротив – молодец?
– Знамо дело, удалец, удалец! – раздался голос знакомый голос, груда каменных обломков зашевелилась, и наружу вылез Звон-Парамон.
Был он изрядно помят, но физиономия сияла, как начищенный самовар. Одёжка была уже не столь франтовая: простая льняная косоворотка, штаны, да лапти. Одним лишь украшением побаловал себя Парамон, онучи подвязал алыми шёлковыми поворозами, да на шее щегольский бант красовался.
–Ты откуда явился? – удивился Стёпка.
– Из Страны Грёз, – от радости встречи пританцовывая, ответил Парамон. – Первое время приохотился я платья менять. Как триста сорок восьмое сменил, тоска стала душу грызть. И грызет, и грызет! Платья уже не радуют. Заскучал я по вас, други мои дорогие. И решил, будь что будет! Хоть эхом бестелесным, хоть в человеческом обличье, но найду вас. И оба-на! Получилось явиться пред вами во вполне достойном виде.
Кинулся он обниматься со Стёпкой и Ерёмкой. Соловей стоял в сторонке.
–Эх, Соловушка, мой родненький, я бы тебя тоже обнял, но по росту своему малому, могу токмо сапог твой прижать к груди!
Соловей рассмеялся и, подняв Парамона, потрепал его по макушке:
– Молодчина, Парамон! Скучал я по тебе шибко. Мы же с тобой как братья, ты голосом камни гранитные рушишь, а я свистом.
– Погодьте с обниманиями, – прервал всех озабоченно Ерёма. – Пусть Птица Гамаюн расскажет нам, что с ней приключилось. Как в плену каменном оказалась?
Печальной стала Птица Гамаюн, потемнели её крылья, словно небо хмурое стали:
– Замуровали меня в камень прислужники чернобоговы, чтобы не могла я свои песни петь, чтобы не могла правду людям рассказывать. Расставили силки, сделали их прозрачнее воздуха. Опутали они, скрутили мне лапы и крылья. Тотчас прислужники явились. Хохотать принялись, глумиться, радоваться, что более не услышать люди голоса моего. Затем сеть каменную набросили. Покрыла она меня, да в малое время в валун превратилась. Чернобог страшнее князя Тьмы и Мрака. Коварнее, злее.
– Да ладно, – недоверчиво сказал Ерёма, – Неужто страшнее Князя Тьмы и Тлена можно быть?
В тот же миг небо пропало, пустота чёрная разверзлась. Тьма непроглядная поползла со стороны пустоши омертвелой. Грохот сопровождал её. Такой грохот, будто сотни сотен камней, покатились с гор, тысячи тысяч громов гремели одновременно. Липким холодом веяло от той тьмы.
Соловей-Разбойник ошалело уставился на надвигающееся стращание:
– Ёк-макарёк, лысый пенёк! Бежим!
Схватив короб, засунул туда Стёпку, сверху кинул Парамона и, не закрывая крышки, пустился наутёк. Ерёмка засуетился, побежал следом, потом остановился.
– Не, Соловей, не годится так! – крикнул он. – Разве можем мы бросить птицу? Не для того её вызволяли из плена каменного, чтобы она опять туда попала.
Развернулся и пустился в обратную сторону, шлёпая лаптями по лужам. Разбойник оглянулся, вздохнул и, обогнав Ерему, прибежал первым. Чернота уже опутывала Птицу Гамаюн. Оперенье её вновь потемнело. Билась Птица, кричала страшным голосом, но слабел её крик с каждым мигом. Вот уж биться перестала, уж голова поникла. Ещё чуток и совсем пропадет Птица Гамаюн.
– Давай, Парамоша, попробуем вместе, – шепнул Соловей и, набрав в грудь воздух, свистнул, что было мочи.
Звонким эхом отозвался Звон – Парамон. Но не простым эхом. Звучали в нём и развесёлый щебет птиц, и шум солнечного водопада, и уютный треск дровишек в костре, и перекличку косарей, и девичий смех, и даже добродушный рык Топтыгина. Шарахнулась в сторону чернота. Ерёмка же не растерявшись, схватил обессилевшую Птицу Гамаюн, зажал подмышкой без всякого уважения, будто гуся с базара тащил, да и побежал, не чуя ног под собой. Сзади тяжело сопя, топал Разбойник.
– А далеко ли нам бежать? – тут же запыхавшись, спросил Ерёма. – Птичка-то пуда на полтора тянет.
– Беда мне с вами квёлыми, – Разбойник перехватил Птицу. – Беги, как можешь, тебя мне уж никак не донести.
– Сам справлюсь, – пробурчал Ерёма и припустил, что было мочи.
Глава II
– Не отчаялась ли ты, Марьюшка, матушку найти? – спросил Макар, присаживаясь отдохнуть.
– Дальний путь мы проделали, но верю, найдем матушку. Подсказывает сердце, скоро уже.
Макар погладил Марьюшку по голове:
– Сердце никогда не обманывает, значит, скоро встретишься. Думаю, что и она тебя не забыла, разыскивает.
Потупилась Марьюшка от смущения:
– Давно хочу спросить тебе, Макар, да не решалась всё. Дорога у нас нелёгкая, а ты не молод. Трудно тебе, поди.
– Неразумное дитя! – засмеялся Макар. – Когда я был горбат, колченог, а люди звали меня Коричневым Карликом, то всяк день был мучителен. А нонче я – ух, какой! Руки-ноги на месте, сила есть, можно разве большего желать? В радость мне тебе помочь. Окромя тебя и нет никого у меня на белом свете. Ты передохни, а я огляжусь, куда это мы с тобой пришли, может деревенька недалече. Авось и пустят люди добрые переночевать. Может, подскажут, в какую сторону идти, – сказал Макар, легко поднялся и пошёл по дороге.
Марьюшка проводила задумчивым взглядом Макара, прилегла на травку и задремала. Показалось ей, будто кто её толкает:
– Вставай, неблагодарная девка!
Подскочила испуганно, да никого не видит, только голос злой шипит:
– Забыла, кому жизнью обязана? Забыла, кого отцом звала-величала?
– Кто ты? – испугано вскрикнула Марьюшка. – Покажись!
–Дай мне каплю своей крови, – прошептал сиплый голос, – покажусь.
Лёг перед девицей нож. Рукоять из кости человеческой сделана, лезвие блестящее острое, всполохи по нему идут багряные.
– Возьми нож, дай мне каплю, всего лишь каплю крови.
Не испугалась Марьюшка, рассердилась:
– Поняла кто ты! Ты тот, кто лишил меня отца и матери. Тот, кто обманул меня. Тот, кто души безвинные губил! Скажу тебе, Князь Мрака и Тлена, ты мертв. Ты ничто! Нет твоей власти надо мной.
Задрожал нож, приблизился к горлу марьюшкиному, ещё чуть-чуть и возится, прольётся кровь. Схватила девица нож, да превратился он в змею. Завернулась вокруг руки кольцами змея, шипит, зубы ядовитые показывает.
– Ах, вот ты как! – разгневалась Марьюшка. – Крови тебе горячей надо? Получай! – оторвала голову змее, бросила её на землю.
А голова продолжает шипеть, зубы показывать:
– Понапрасну ты это сделала, глупая девка! Теперича кровь увечного карлика на тебе будет. Его найду, его кровью напьюсь.
Сказала так змеиная голова и исчезла в одночасье. Тело змеиное соскользнуло с руки, упало наземь и в прах рассыпалось.
Очнулась Марьюшка бледная, дрожит вся.
– Ох, и гадкий сон!
Вокруг полуденницы собрались, охают, ахают:
– Нет, Марьюшка, не сон, морок навел на тебя Князь Мрака и Тлена. Ты прилегла на траву его, вот и привиделось.
Показывают девы полевые траву, а та с цветами чёрными, стебли змеями извиваются, листья острые, как ножи, да кайма багряная. На концах листьев ягоды, но непростые. Сами желтые, посередине продольная черная полоска, будто змеиный зрачок, следящий за всеми.
– Да как так? – удивилась Марьюшка. – Князь Мрака в пепел превратился, схоронили тот пепел глубоко.
Полуденницы всплеснули руками:
– Из глубины он и лезет то травой ядовитой, то ягодами волчьими. Морок наводит на живых.
–Ну, коли морок, то не велика беда, – отмахнулась Марьюшка. – Скоро Макар вернется, пойдем дальше матушку мою искать.
Зашумели девы полевые, Марью за руки схватили, потащили по дороге:
– Нельзя ждать, предупреждение сие для тебя. Беги за Макаром. Князь Мрака хоть и в пепел превратился, но может ещё бед наделать. Беги, предупреди дедушку Макара.
Забеспокоилась Марьюшка:
– Спасибо, сестрички! Послушаюсь вашего совета, предупрежу Макара.
Бежит со всех ног, время от времени останавливается, прислушивается, может, голос Макара слышен будет. То сама крикнет:
– Ау, Макарушка! Отзовись! Где ты?
Услышала шум вдали, повернулась в ту сторону, видит, бьются двое.
– Ох, не зря меня предупреждали полуденницы! – ахнула девица. – Кабы и в самом деле беды не случилось! – и припустила вовсю прыть.
Добежала и видит, Макар с парнем молодым борется. Силен Макар, а парень сильнее, ловок Макар, а парень ловчее. Видно, устал Макар уже, рубаха к спине прилипла, кряхтит, но держится. Прихватил парня за грудки, да тот вывернулся, повалил Макара на землю, подмял под себя, занес руку, чтобы ударить, а в руке вдруг нож появился. Ручка из кости человечьей, лезвие острое, багряные всполохи по лезвию бегут. Закричала страшным голосом Марьюшка, вцепилась в волосы парню, треплет его:
– Отпусти, Макарушку, душегуб!
А он не слышит, не чувствует, в раж вошёл. Ещё чуть-чуть и зарежет Макара.
От гнева у девицы глаза потемнели, и откуда только сила в ней взялась, вывернула руку парню, укусила, что было силы. Дрогнула рука, разжались пальцы, нож упал наземь. Отпихнула его Марьюшка подальше. Сама отскочила от парня, а нож рукой боится брать, что делать не знает. Толкнул Макар парня, тот кулем и свалился. Поднялся, утёр пот со лба:
– Ах ты, шаромыжник! К нему по-людски, а он с кулаками кидается. Так бы и врезал! Да лежачих не бьют, – негодует Макар.
Отдышался и спрашивает:
– Ты как здесь, Марьюшка?
– Погоди, Макар, с вопросами, дело важное надо сделать, потом разговоры.
Парень же лежит, не шелохнется, глаза закатил.
– Повремени с делами, видишь человек в беспамятстве, кабы не помер.
– Успеется, – нетерпеливо ответила Марьюшка. – Да и не надо сейчас, чтобы он видел, чем займемся.
Показала на нож, да рассказала, что приключилось. Задумался Макар:
– Вот значит, каков Князь Мрака. Испепелили его, а он всё одно крови горячей жаждет. Не бывать этому! Ох, осерчал я, Марьюшка!