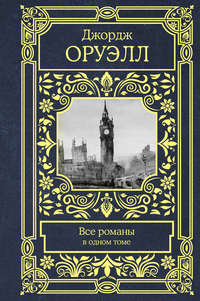
Все романы в одном томе
– Не устал еще пакости молоть?
– Баранинка с лучших английских пастбищ! Свежесть и сочность гарантируется!
Похотливо фыркая, Эллис изобразил выбор аппетитного куска мяса. Шуточка ему уже явно полюбилась, обещая надолго застрять в репертуаре; марать женщин было его сладчайшим удовольствием.
С Элизабет Флори в тот вечер больше не разговаривал. Общество развлекалось шумной беседой ни о чем, он в этом жанре не блистал. Что же касается Элизабет, то, очутившись в приятной клубной атмосфере – в окружении белых лиц, дорогих сердцу глянцевых журналов и милых «восточных картин», – она окончательно пришла в себя после сомнительной авантюры с посещением дикарских плясок.
Когда в девять часов семейство Лакерстинов покинуло клуб, провожать их до дома отправился не Флори, а мистер Макгрегор. Среди фантастичных теней от причудливых форм тропической растительности он эскортировал Элизабет с грацией чрезвычайно куртуазного исполинского ящера. Разумеется, барышне был предложен весь ассортимент анекдотов – каждого новичка мистер Макгрегор одаривал массой забавнейших историй, старожилам давно осточертевших и бесцеремонно прерывавшихся. Но Элизабет по натуре была отличным слушателем, так что глава округа отметил для себя редкостную интеллектуальность этой девушки.
Флори еще немного посидел в клубе за выпивкой. Подробно и смачно обсуждалась Элизабет. Распри насчет приема доктора Верасвами временно отложили. Составленное Эллисом гневное заявление тоже сняли с доски (державший курс беспристрастной справедливости, мистер Макгрегор настоял на его удалении). Протест, таким образом, был подавлен; впрочем, уже достигнув своей цели.
9
Следующие две недели были богаты на события.
Вражда между У По Кином и доктором Верасвами достигла бурной фазы. Население городка, от высших туземных чинов до последнего мусорщика, раскололось на две партии, и каждый был готов в нужный момент под присягой оболгать врагов. Партия доктора, однако, оказалась значительно слабее как числом сторонников, так и общей клеветнической отвагой. Редактора «Сынов Бирмы» привлекли к суду за злостную политическую агитацию и посадили. Арест его откликнулся в Рангуне небольшими (лишь парочка убитых) и быстро усмиренными беспорядками. Сам редактор за решеткой объявил голодовку, продержавшись без пищи целых шесть часов.
В Кьяктаде тоже было неспокойно. Каким-то загадочным способом бежал из тюрьмы знаменитый бандит Нга Шуэ О. Кроме того, день ото дня множились слухи о мятежных крестьянских настроениях, в связи с которыми по секрету упоминалась Тхон-гва, деревушка в тиковых джунглях, недалеко от временной инспекционной стоянки Максвелла. В довершение всего объявился вейкса, колдун, бродивший по деревням, пророчивший гибель британской власти и торговавший рубахами, заговоренными от пуль. Не склонный верить слухам, мистер Макгрегор все же срочно запросил помощь военной полиции. Поговаривали, что в Кьяктаду вскоре прибудет рота индийской пехоты под командой английского офицера. Вестфилд, конечно, при первой же угрозе беспорядков (точнее, в надежде на них) поспешил отправиться в мятежную деревню.
– Господи, хоть бы раз они взбунтовались по-настоящему! – делился он с Эллисом перед отъездом. – Но хрен дождешься! Вечно пшик. Веришь ли, я тут десятый год, и ни единой твари, даже бандита вшивого не подстрелил. Тоска.
– Что ж, – утешал Эллис. – Даже если они не лезут в драку, можно схватить их главарей, бамбуком в кровь отодрать. Все лучше, чем в твоей кутузке с ними нянчиться.
– Хм, это да. Хотя и этого себе сегодня не позволишь. Чертовы гуманные законы – приходится их соблюдать, раз уж мы, болваны, их приняли.
– Закон – тухлятина! Бирманец только палку понимает. Видал их после порки? Везут из тюрьмы полудохлых на телеге, вой, бабы им задницы кашей банановой мажут. Вот им закон! Я б только этих сволочей, как у турок, лупцевал: по пяткам!
– Ладно. Может, хоть нынче побуянят. Тогда и боевые полицейские отряды, и винтовки, и все что надо. Хлопнуть бы парочку дюжин – прочистить воздух!
Увы, надежды не сбылись. Когда Вестфилд с десятком полицейских (констебли, удалые мордастые гуркхи, жаждали пустить в ход свои кинжалы) ворвались в Тхонгву, деревня встретила унылым мирным покоем. Ни малейшего признака бунта, лишь ежегодная, возникавшая с регулярностью муссона, попытка крестьян уклонится от налога.
Становилось все жарче. Элизабет настиг первый приступ лихорадки. Теннис почти прекратился; после каждого сета игроки падали на скамейку и пинтами глотали прохладительные напитки, чаще тепловатые, поскольку лед, привозившийся только дважды в неделю, за сутки таял. Полыхали лесные пожары. Защищая лица детей от солнца цветной глиной, бирманки превращали ребятишек в карликовых африканских шаманов. К созревшим старым тутовым деревьям у базара слетались тучи голубей: и мелких, зеленых, и королевских, огромных, как утки.
Флори тем временем выгнал из дома Ма Хла Мэй.
Гнусное дело! Повод у него нашелся – она украла и заложила китайцу Ли Ейку золотой портсигар. Но все, все в доме знали, что это из-за «крашеной английки», как называла Ма Хла Мэй светловолосую Элизабет.
Сначала обиженная бирманка держалась без истерики. Мрачно стояла, когда он выписывал ей чек, по которому она у того же Ли Ейка или индийского менялы получит сотню рупий, молча выслушала о своей отставке. Стыд жег Флори, голос его звучал глухо и виновато, он не мог поднять глаз, а когда за ней приехала телега, спрятался в спальне, дожидаясь конца этой муки.
Вот уже скрипнули по песку колеса и хрипло гикнул возница, но вдруг все зазвенело от кошмарных истошных воплей. Флори выскочил. У ворот в ярком свете дня боролись цеплявшаяся за столбик калитки Ма Хла Мэй и пытавшийся ее оторвать Ко Сла. При виде Флори женщина вскинула лицо, искривленное яростью и обидой, и закричала, бесконечно повторяя:
– Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин! Тхэкин!
Его пронзило, что даже сейчас она называла его тхэкин, «мой господин».
– В чем дело? – поморщился он.
Оказалось, Ма Хла Мэй и Ма Йи не поделили пряжку для волос. Оставив предмет раздора одной даме, Флори возместил другой ее утрату парой рупий. Телега наконец тронулась, увозя Ма Хла Мэй, угрюмо и прямо сидевшую между двух высоких корзин, с котенком на коленях. С котенком, которого он подарил ей всего два месяца назад.
Ко Сла, когда заветная его мечта о выдворении Ма Хла Мэй сбылась, нисколько не повеселел. Узнав же про намерение хозяина остаться в городке и посетить церковь, опечалился еще больше. Флори и в самом деле не уехал, а в воскресенье, в день приезда падре, отправился на утреннюю службу. Всей паствы собралось двенадцать человек (включая мистера Франциска, мистера Самуила и шестерых крещеных аборигенов), и миссис Лакерстин на крошечной сипевшей фисгармонии с единственной педалью заиграла «Пребудь во Мне». Впервые за последний десяток лет Флори очутился в церкви не на похоронах. А крайне смутно представлявший таинства ритуалов «английской пагоды» Ко Сла, как всякий холостяцкий слуга, воспринял этот респектабельный поход с глубочайшей интуитивной ненавистью.
– Быть беде! – мрачно вещал он у сараев. – Я все вижу! Хозяин-то последнюю неделю совсем другой стал – за день курит всего полпачки, джин перед завтраком не пьет, вечером снова бреется – думает, глупый, я не знаю! – и полдюжины новых шелковых рубашек заказал! Пришлось мне очень плохим словом ругаться на портного, чтобы, мол, вовремя хозяину эти рубахи. Ох, чую, худо будет! Еще месяца три от силы, и прощай мир да лад!
– Жениться, что ль, собрался? – спросил Ба Пи.
– Как пить дать. Коли белый стал в свою пагоду ходить, это уж точно – жди конца.
– Я у многих белых служил, – отозвался старый Сэмми. – Хуже всех был сахиб полковник Вимпол. Ему покажется, что слишком часто оладьи банановые жаришь, так он велит своему ординарцу нагнуть тебя, прижать к столу, а сам со всей мочи тяжелым сапожищем пинает тебя в зад. А как напьется, станет прямо по хижине твоей палить. Но лучше у сахиба полковника Вимпола целый год, чем неделю у мэм-сахиб, что тебя в кухне учит-учит. Если хозяин женится, я в тот же день сбегу.
– А мне никак, все-таки уж пятнадцать лет ему служу. Только я знаю, как она тут будет, белая женщина. Будет жучить за каждую пылинку и, чуть в жару приляжешь, будет звонить, чтобы ей чай несли, и нос совать во всякую кастрюльку, и вопить из-за тараканов в помойном баке. Сдается мне, белые женщины и не спят вовсе – днем и ночью придумывают, чем бы слуг изводить.
– У них еще такие книжечки, – подхватил Сэмми, – куда они все пишут, что на базаре куплено: за это две аны, за это полторы. Ни пайсы33 не дадут человеку заработать! На луковку себе возьмешь, а пилят больше, чем сахиб за пропажу пяти рупий.
– Будто я не знаю? – тяжко вздохнул Ко Сла. – Эта будет еще похуже Ма Хла Мэй. Ох, женщины!
Эхом вздохнули и остальные, в том числе Ма Пью и Ма Йи, отнюдь не принявшие последний возглас на счет женщин вообще, поскольку англичанки виделись здесь особым племенем, не совсем даже человеческим и столь ужасным, что их воцарение мигом распугивало самых верных слуг.
10
Тревоги Ко Сла были, однако, преждевременны. На десятый день общения с Элизабет Флори едва ли стал ей ближе, чем в день знакомства.
Случилось так, что это время он был при ней фактически единолично: почти все белые разъехались по джунглям. Флори тоже абсолютно не имел права болтаться в городе – добыча древесины на его участке сильно затормозилась, и неопытный заместитель (полукровка, англо-индиец) слал ежедневные отчаянные письма с перечислением бедствий: один из слонов заболел! Мотор дрезины на узкоколейке, доставлявшей бревна к реке, сгорел! Пятнадцать грузчиков разбежались! И все же, ссылаясь на лихорадку, Флори тянул, не в силах уехать от Элизабет, упорно надеясь вернуть чарующую теплоту их первой встречи.
Да, встречались они каждое утро, каждый вечер вдвоем играли в теннис (у миссис Лакерстин как раз разболелась нога, а мистера Лакерстина донимала больная печень, что вынуждало супругов безвылазно сидеть в салоне клуба, утешаясь сплетнями и бриджем). Они подолгу бывали вместе, часто наедине, болтали вроде бы свободно, без конца обсуждая бесконечную ерунду, но Флори не покидала скованность; ни разу не удалось забыть о своей меченой щеке. Дважды в день скоблившийся подбородок горел, организм изнывал без невозможных в присутствии девушки виски и сигарет. Желанная задушевность не приближалась.
Почему-то не удавалось нормально поговорить. Просто поговорить! Звучит тускло, но означает так много! Если полжизни жил в жестоком одиночестве, среди тех, кого возмутил бы любой твой искренний отклик на что угодно, жажда общения становится первейшим из всех желаний. Однако же серьезный разговор никак не получался. Беседы, будто заколдованные, неизменно бренчали стандартным набором: грампластинки, собаки, теннис – обычная, пошлая клубная трескотня. Словно Элизабет и не хотелось говорить о чем-либо другом. Стоило Флори коснуться темы мало-мальски интересной, щебет ее сменялся уклончивой сухостью, в голосе слышалось «не буду с тобой играть!». Ее литературный вкус, обнаружившись, ужаснул. Правда, Флори напоминал себе, что это еще дитя, к тому же разве не питала эту душу атмосфера парижских платанов, белого вина, бесед о Прусте? Со временем она, несомненно, поймет и отзовется так, как ему жаждется. Надо лишь заслужить ее доверие.
Конечно, такта Флори не хватало. Замкнутый книгочей, он лучше понимал идеи, чем окружающих. И при всей пустоте их разговоров стал порой раздражать Элизабет: не столько даже тем, что говорил, сколько тем, что он подразумевал. Между ними возникла напряженность, не очень внятная, но часто доводившая почти до ссоры. Когда один человек знает страну, а некто только приезжает, первый, естественно, становится гидом и толкователем; Элизабет осматривалась в Бирме – Флори показывал, переводил и объяснял. Стиль пояснений и вызывал в туристке внутренний протест. Рассказывая о туземцах, гид, например, всегда держал их сторону, хвалил их обычаи и нравы, позволял себе даже сравнивать местных с англичанами, причем опять-таки в их пользу. Это задевало. Пусть они экзотичны, любопытны, но все-таки относятся к «низшим» народам, неразвитым и темнокожим. Позиция гида отличалась какой-то чрезмерной терпимостью. Однако Флори не уловил, чем постоянно вызывалось эмоциональное сопротивление Элизабет. Он так старался показать ей Бирму во всей прелести и так страшился увидеть надменный, равнодушный взгляд мэм-сахиб! Забыл, что большинству людей в чужой стране уютно лишь с ощущением презрительного превосходства над коренными жителями.
Конечно, Флори чересчур усердствовал в попытках заинтересовать Элизабет Востоком. Пробовал, например, вдохновить ее на изучение бирманского языка – безуспешно (тетушка объяснила племяннице, что бирманский нужен только миссионеркам, а дамам для объяснений со слугами вполне достаточно краткой кухонной версии индийского урду). И подобным маленьким расхождениям не было конца. Взгляды у него, начинала чувствовать Элизабет, не совсем те, коих должен держаться англичанин. Еще яснее она различила его желание вызвать в ней симпатию к бирманцам и даже восхищение ими. Дикарями, чей вид по-прежнему заставлял содрогаться!
Спорная тема вновь и вновь возникала по бесчисленным поводам. Вот шла навстречу мужская компания бирманцев. Все еще удивленно и слегка брезгливо оглядев их, Элизабет делилась с соотечественником:
– Как они все же безобразны, правда?
– Разве? По-моему, довольно симпатичны, а скроены вообще роскошно. Смотрите, какой торс у парня, – бронзовый атлет! И представьте, сколько анатомических курьезов явила бы нам бы улица в Англии, если б и там расхаживали полуобнаженными.
– Но эти жуткие головы! Без затылка, как у кошек, с покатым, каким-то хищным, лбом. Я в журнале читала про формы черепа, там говорилось, что покатый лоб выявляет врожденную криминальность.
– Не слишком ли размашистое обобщение? У половины человечества такие лбы.
– Ну, если вы имеете в виду всяких цветных, тогда конечно… Или вот проходила мимо вереница крестьянок с кувшинами на головах – медно-коричневые тела, стройные сильные спины, выпуклость плотных, крепких ягодиц. Бирманки особенно шокировали Элизабет, ощущавшую как оскорбление некое свое видовое родство с женским туземным населением.
– Просто страшилы, да? Что-то такое грубое, похожи на каких-то животных. Неужели они кому-нибудь могут нравиться?
– Полагаю, своим мужчинам.
– Ну, если только своим. Но как дотронуться до этой черной кожи? Бр-р!
– Знаете, существует мнение, и я склонен с ним согласиться, что пожившим на Востоке смуглая кожа видится более органичной, естественной. Собственно, так оно и есть. Возьмите мир в целом – скорее уж белых надо признать странным капризом природы.
– Очень забавно!
И так далее, и так далее. В его рассуждениях ей постоянно слышалось нечто чуждое, нездоровое. Особенно отчетливо это проявилось тем вечером, когда Флори позволил двум метисам-отщепенцам, мистеру Самуилу и мистеру Франциску, вовлечь себя в беседу у клубных ворот.
Элизабет в тот вечер пришла в клуб чуть раньше Флори и, заслышав его голос, направилась навстречу, к корту. Оба евроазиата, подступив бочком, стояли подле Флори, заглядывая ему в лицо глазами псов, умоляющих хозяина поиграть с ними. Говорил в основном худенький, табачного оттенка, вечно возбужденный Франциск, сын женщины с юга Индии. Бледно-желтый, с тусклыми рыжими волосами Самуил, чья мать была из бирманских каренов, молча млел. Тщедушные, в солдатских обносках и огромных тропических шлемах, они казались парочкой хрупких поганок. Говорить с белым, да еще рассказывать о себе было для них великим, величайшим счастьем. И когда изредка (не чаще пары случаев в год) такой шанс выпадал, речи Франциска лились неукротимым потоком. Элизабет подошла как раз вовремя, чтобы узнать о главных вехах его богатой и поучительной биографии.
– Отца моего, сэр, я помню плоховато, – гортанной, певучей скороговоркой рассказывал Франциск, – но он был ужасно сердитый, ходил с большой тяжелой палкой и часто дубасил нас всех: меня, моего сводного братишку и наших мамочек. А когда ожидался епископ, нам с братишкой сразу приказывали надеть лонджи и бегать с туземными детьми, как будто мы чужие. А моему-то отцу, сэр, никак было не стать епископом. Он, сэр, за тридцать лет секты свои пять раз переменял, и потом слишком обожал водку китайскую из риса, страсть как шумел с нее, и еще сочинил самую великолепную брошюру «Бич пьянства» – издано общиной баптистов в Рангуне, цена одна рупия восемь ан. А мой сводный братишка умер, жары не вытерпел, все кашлял, кашлял…
Евроазиаты заметили Элизабет и, сдернув с голов свои шлемы, сверкая улыбками восторга, раскланялись. Судьба годами не баловала их беседой с белой леди. Вспыхнувший Франциск, в страхе, что его прервут и разговор потухнет, судорожно зачастил:
– Добрый вечер, мадам, добрый, добрый вечер! Такая честь, большая честь, мадам! Какая жаркая погода на этих днях, не так ли? Да, апрель, апрель. Вас, верно, очень донимают приступы лихорадки? Самое лучшее средство – толченый тамаринд прикладывать. Я сам каждую ночь ужасно мучаюсь. Очень уж донимает лихорадка нас, европейцев.
«Нас, европейцев» было произнесено с важностью мистера Чоллопа из «Мартина Чезлвита»34. Элизабет, холодновато глядя, не ответила: кем бы ни были эти субъекты, их развязность явно превышала меру допустимого.
– Спасибо, насчет тамаринда я запомню, – кивнул Флори.
– Старый, проверенный рецепт китайцев, сэр. А еще, знаете, и вам, сэр, и мадам не надо бы сейчас ходить в панаме. Очень, очень опасно! Аборигенам-то все нипочем, а у нас череп тонкий, нам это солнце прямо смерть! Но вы спешите, да? – упавшим голосом протянул Франциск. – Вам некогда, мадам?
Элизабет окончательно решила презреть вульгарных типов, с которыми теряет время Флори, и пошла к корту, досадливо хлопнув в воздухе ракеткой. Флори тут же стал прощаться, стесняясь, стараясь как можно дружелюбнее спровадить этих терзавших душу несносных горемык.
– Надо идти, – развел руками он, – ну, пока, Франциск, пока, Самуил.
– До свидания, сэр! До свидания, мадам! Приятного, приятного вам вечера!
Пятясь и махая огромными шлемами, бедняги удалились.
– Боже мой, кто это? – спросила Элизабет. – Нелепые какие! Я уже видела их в церкви, один по виду почти белый, но ведь не англичанин, нет?
– Нет. Сыновья белых отцов и местных женщин. Мы таких ласково называем «желтопузыми».
– Но как они живут, чем? Где работают?
– Перебиваются кое-как при базаре. Франциск, насколько мне известно, писарем у закладчика индуса, а Самуил кем-то вроде ходатая по тяжбам. Хотя кормятся главным образом за счет милосердия туземцев.
– Что? Вы хотите сказать – милостыни от туземцев?
– Именно так. Расход, думаю, невеликий, если, конечно, есть желание помочь. А у бирманцев принято спасать ближних от голода.
О нищенстве в колониях людей, хотя бы отчасти белых, Элизабет услышала впервые. Новость так поразила ее, что теннис еще на несколько минут был отложен.
– Ужасно! Недопустимый, по-моему, пример! Ведь они все-таки почти как мы, и неужели нельзя что-то сделать? Собрать немного денег по подписке и отослать этих двоих куда-нибудь?
– Боюсь, проблему это не решит, их всюду ожидает та же участь.
– Ну, а нельзя найти им хоть какой-то пристойный заработок?
– Сомневаюсь. Видите ли, у подобных полукровок, взращенных на помойке и полуграмотных, нет стартовой площадки. Европейцы, гнушаясь ими, не подпустят карикатурную родню и к самым ничтожным штатным должностям. Ничего им не светит, кроме как жить милостыней, пока они не оставят своих жалких потуг быть «белыми». Однако ж не оставят, и понятно – капля европейской крови их единственный капитал. Бедняга Франциск, как ни встретишь, все с рапортом о своей лихорадке. Понимаете? Считается почему-то, что туземцев она не треплет. То же самое их здоровенные шлемы от солнца – демонстрация нежных европейских макушек. Так сказать, родовой герб бастардов.
Рассуждения Флори девушку не убедили, лишь вновь задели его потаенным сочувствием метисам, которые внушали ей неприязнь и которых она для себя наконец классифицировала, отнеся к сорту мексиканцев, итальянцев и прочих «даго», в кинофильмах всегда изображающих плохих.
– Ужасно выглядят – такие хилые и льстивые, и лица такие неблагородные. Это ведь явное вырождение? Я слышала, что полукровки всегда наследуют самое скверное с обеих сторон?
– Не знаю, вряд ли. Евроазиаты частенько далеки от совершенства, но иного при обстоятельствах их жизни ждать трудно. Вот наше отношение к ним действительно самое скотское, словно бы эти бедолаги заводятся от сырости. Происхождение их известно, стало быть, нам и отвечать за их существование.
– Нам?
– Ну, отцы же у них были.
– О!.. Это… Но ведь это же не мы. Только последний негодяй мог бы… ну… связаться с туземкой, вы не согласны?
– Совершенно согласен, лишь замечу, что в данном случае отцами были посланцы святых миссий.
Флори вспомнилась полукровка Роза Мэрфи, соблазненная им в 1913-м в Мандалае. Вспомнилось, как он крадучись выскальзывал из дома и ехал, прячась в плотно зашторенной повозке; вспомнились завитые тугими локонами волосы Розы, ее мать, сухонькая старая бирманка, наливавшая ему чай в гостиной с горшком папоротника и плетеным диваном. И позже эти написанные на дешевой бумаге, бесконечные душераздирающие письма, которые он перестал вскрывать.
После тенниса Элизабет вновь заговорила о Самуиле и Франциске:
– А с этими двумя кто-нибудь дружит, приглашает их к себе?
– Боже упаси! Абсолютные изгои. С ними даже не разговаривают, исключительно «здравствуйте-прощайте», а Эллис и того не скажет.
– Но вы ведь сейчас с ними говорили?
– Что ж, у меня склонность к попранию приличий. Речь о благородных пакка-сахибах, от которых я изредка дерзаю отличаться.
Опрометчивая реплика. Выражение «пакка-сахиб» и его смысл Элизабет уже вполне усвоила, так что разница позиций прояснилась. На Флори был брошен почти враждебный взгляд – нежное, гладкое, как лепесток, девичье лицо умело смотреть на удивление жестко, с особым холодком, блестевшим в стеклышках очков. Очки вообще до странности выразительная штука, едва ли не выразительнее глаз.
Но даже в тот раз Флори ничего не понял, не догадался, почему не вызывает ее доверия. Внешне, однако, все текло довольно гладко. Подчас он раздражал Элизабет, но память о его подвиге в день знакомства еще не развеялась. Примечательно, кстати, что девушка пока как-то не обращала внимания на его ужасное пятно. К тому же все-таки имелись некие увлекавшие ее сюжеты – охота, например (тут она проявляла редкий для своего пола энтузиазм), а также лошади (увы, в этом предмете Флори был менее сведущ). Они договорились вскоре вместе поехать на охоту. Оба готовились к экспедиции с равным, хотя имевшим разные мотивы, нетерпением.
11
Утренняя прогулка Элизабет и Флори походила на плавание сквозь волны зноя. Они шли по дороге, ведущей к базару. Навстречу, шаркая сандалиями, тянулись посетившие рынок бирманцы, быстро семенили стайки щебечущих, сверкавших гладкими черными головками девушек. С обочины, разломанные хваткой мощных тутовых корней, осколки плит старинной пагоды гневно таращились резными ликами демонов. Одно большое тутовое дерево, обвившись вокруг пальмы, гнуло, заламывало стройный ствол в беспощадной многолетней борьбе.
Гуляющая пара приблизилась к тюрьме – громадному квадратному строению с бетонной стеной футов двадцать в высоту. По гребню стены расхаживал, скребя когтями, тюремный ручной павлин. Две тройки матерых мосластых арестантов в робах из мешковины и таких же колпаках на бритом темени, нагнув головы, волокли груженные землей телеги под надзором индийца-конвоира. Громко звенели кольца ножных кандалов, серые лица не выражали ничего, кроме тупого равнодушия. Небрежно отмахиваясь от круживших над ней наглых ворон, прошла женщина с корзиной рыбы на голове. Где-то поблизости морским прибоем шумели голоса.
– Базар здесь прямо за углом, – пояснил Флори, – забавное местечко!
Накануне он предложил Элизабет прийти сюда, полагая развлечь ее экзотикой местного рынка. Они свернули за угол. Огороженный вроде большого загона для скота, базар состоял из теснившихся по кругу низеньких, крытых пальмовым листом ларьков. Крик, толчея, искрящийся каскад одежд всех цветов радуги. Позади рынка виднелся широкий мутный речной поток, стремительно мчавший коряги и пряди пены. У берега качалось множество привязанных к шестам остроклювых сампанов с нарисованными на бортах лодок глазами.