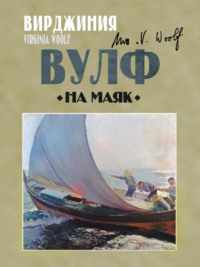
На маяк
– Кто-то ошибся, – сказал он, опять принимаясь вышагивать взад-вперед по садовой террасе.
Но как удивительно у него изменился голос! Как у кукушки; которая «июньским деньком поет не о том», будто он пробовал, искал струну для нового настроения и взял ту, что, хоть уже и сорванная, легла под руку. Как же это звучало смешно, «Кто-то ошибся», произносимое таким тоном, почти вопросительно, без убеждения, враспев. Миссис Рэмзи невольно улыбнулась, и в самом деле скоро, бродя взад-вперед по террасе, он эту фразочку пробубнил, обронил, – умолк.
Он был спасен, он вновь обрел ненарушимое уединение. Он остановился раскурить трубку, глянул на жену и сына в окне и, как, несясь в скором поезде мимо дерева, и двора, и постройки, поднимаешь от книги взгляд и в них видишь иллюстрацию, подтверждение чему-то на печатной странице и потом возвращаешься к ней подкрепленный, подбодренный, так и он, не видя, собственно, ни жены, ни сына, глянув на них, подкрепился, подбодрился и мог спокойно сосредоточиться дальше на разрешение проблемы, которая поглощала все силы его блистательного ума.
Да, блистательного ума. Ибо, если мышление уподобить клавиатуре рояля, разделенной на столько-то клавиш, либо алфавиту, в котором буквы от первой и до последней выстроены в строгом порядке, – его блистательный ум без труда пробегает по всем этим буквам, пока не доходит, скажем, до П. Он достиг П. Очень немногие во всей Англии достигали когда-нибудь П. Тут, остановясь на минутку подле урны с геранями, он увидел – уже далеко-далеко, как детишек, собирающих ракушки на пляже, дивно невинных, поглощенных смешной чепухой у себя под ногами и решительно беззащитных против происков рока, которые он-то уже раскусил, – жену и сына, рядышком, в окне. Они нуждаются в его защите; она им обеспечена. Ну-с, хорошо – а после П? Что дальше? После П целый ряд букв, из которых последняя едва различима смертному взору и лишь смутно мерцает вдали. Ее достигает единственный в поколении. Однако если добраться хотя бы до Р – это уже кое-что. П он достиг. Тут он окопался. В П он абсолютно уверен. П он готов доказать. Но если П есть П, значит, Р… Тут он выбил трубку, несколько раз звонко стукнув по бараниему рогу, служившему урне ручкой, и стал думать дальше. «Значит, Р…» Он подобрался, напрягся.
Качества, при которых корабельная команда продержалась бы в бушующем море на шести сухарях и на фляге воды – выдержка, осмотрительность, справедливость, преданность, ловкость, – пришли к нему на выручку. Значит, Р… да, так что же такое Р?
Пленкой, как трепетным кожаным веком ящерицы, подернуло его зоркий взор, заслонило букву Р. И в этом озарении тьмы он услышал, как люди говорят, – он не состоялся, куда ему Р, Р ему не по зубам. Так нет же, вперед, к Р. Р…
Качества, которые нужны проводнику, вожаку, вдохновителю отчаянной экспедиции в стылую одинокость полярной ночи, чтоб, не поддаваясь ни отчаянию, ни обманным мечтам, твердо глянуть в лицо судьбе, – снова пришли к нему на выручку.
Снова дрогнуло веко ящерицы. На лбу у него взбухли жилы. Герани в урне стали странно прозрачны, и сквозь них проступало, хочешь не хочешь – древнее, очевиднейшее различие между двумя классами людей; с одной стороны – неустанные, сверхупорные, вышагивающие по порядку по всему алфавиту и его затверживающие от начала и до конца; и с другой – одаренные, вдохновенные, разом сглатывающие все буквы – гении. Он не гений; он на это не посягает; но он в состоянии или был в состоянии четко вытвердить весь алфавит. А меж тем – завяз на П. Ну, так вперед – к Р.
Чувство, которое не обесчестит и альпиниста, если тот видит, что валит снег и горы канули в муть, и, значит, придется лечь и принять смерть до утра – такое вот чувство нашло на него, разом выцветило глаза и на очередном повороте вдруг превратило его на миг в дряхлого старца. Но нет, он не намерен умирать лежа; он найдет выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя. Никогда ему не добраться до Р.
Он застыл подле урны со стекающими геранями. Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обреченной надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ль его упрекать, что он – не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну а славы его – надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нем скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. Но что такое две тысячи лет? (Иронически адресовался мистер Рэмзи к цветущей изгороди.) В самом деле – что? Если взглянуть с горной вершины на пустыни веков? Эти камни, которые пинаешь ногой, долговечней Шекспира. Ну а его огонек год-другой поблестит, а потом и потонет в более ярком, тот – в еще более ярком. (Он вглядывался в темный, сложный заговор изгороди.) И кто упрекнет предводителя обреченной кучки, которая все же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звезд, кто его упрекнет, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мертвого на посту безупречным солдатом? Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны.
Кто упрекнет его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели? Кто, наконец, упрекнет вождя безнадежной экспедиции, если, исчерпав всю отвагу, все силы, он засыпает, не заботясь о том, проснется он или нет, и по легкому колотью в пальцах догадывается, что жив и вовсе не прочь еще пожить, но мечтает о сочувствии, о виски, о ком-то, кто немедленно выслушал бы рассказ про его злоключения? Кто его упрекнет? Кто тайком не порадуется, когда герой снимет доспехи, остановится подле окна, глянет на жену и на сына, очень дальних сперва; подплывавших все ближе и ближе, покуда губы, книга, глаза ясно вырисуются перед ним, такие еще дивные, непривычные после пристальности отъединения и пустыни веков, угасания звезд, и он наконец сунет трубку в карман и склонит перед ней величавую голову – кто его упрекнет, если он склоняется перед красою вселенной?
7А сын ненавидел его. Ненавидел за то, что к ним подошел, остановился, на них уставился; ненавидел за то, что им помешал; ненавидел за преувеличенную изысканность жестов; за эту его величавую голову, за требовательность и эгоизм (стоит и требует, чтобы им занимались); но всего больше ненавидел он этот трепет, эту натянутость, дрожь, которой рябило ясную гладь их отношений с матерью. Уставясь в страницу, он надеялся его отогнать; ткнув пальцем в слово, надеялся вернуть внимание матери, которое, он понял с тоскою, сразу отвлеклось на отца. Но нет. Мистера Рэмзи не так-то легко было отогнать. Он стоял, он требовал сочувствия.
Миссис Рэмзи, сидевшая привольно, обнимая сына, вдруг вся подобралась, подалась вперед, изогнулась и словно выпустила струю энергии, целый фонтан, и она трепетала, будто все ее силы разом слились в одну, а струя искрилась и билась (покуда сама миссис Рэмзи осталась спокойно сидеть и опять взялась за чулок), и в эту-то драгоценную плодоносность, в этот плещущий источник жизни погружалась роковая мужская скудость, как медный, бесплодный и голый клюв. Он требовал сочувствия. Он не состоялся, – сказал он. Миссис Рэмзи сверкнула спицами. Мистер Рэмзи повторил, не отрывая глаз от ее лица, что он не состоялся. Она и слушать не хотела. «Чарльз Тэнсли…» – сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Перво-наперво, чтобы его уверили в его гениальности, а затем ввели в жизненный круг, утешили, ублаготворили, обратили бесплодие в плодоносность и чтобы все комнаты в доме наполнились жизнью, – гостиная; за гостиной – кухня; над кухней – спальни; и рядом – детские; чтоб все они ожили, наполнились жизнью.
Чарльз Тэнсли считает его крупнейшим современным мыслителем, – сказала она. Но ему было этого мало. Он требовал сочувствия. Чтобы его убеждали, что он нужен; необходим; не только здесь, во всем мире. Сверкая спицами, уверенная, прямая, она создавала гостиную, кухню, пронизывала блеском; приглашала его уютно располагаться, входить, выходить, отдыхать. Она смеялась, она вязала. Стиснутый ее коленями, Джеймс чувствовал, как вся ее сила устремлялась вверх, навстречу ненасытному медному клюву, безжалостному ятагану, который бил, бил и бил, требуя сочувствия.
– Он не состоялся, – повторил он. – Да что ты, опомнись, ну посмотри! – Сверкая спицами, она обвела взглядом комнату, посмотрела в окно, посмотрела на Джеймса и совершенно его уверила своим смехом, спокойствием, своею уверенностью (так няня, неся свечу темной комнатой, утешает раскапризничавшееся дитя), что все это – на самом деле; полный дом; и кипящий сад. Пусть только он положится на нее, и можно ничего не бояться, в какие бы ни погружался он бездны, в какие бы ни забирался выси, она всегда будет рядом. Так похваляясь способностью опекать, защищать, она уже не узнавала себя; ничего своего не осталось, все было отдано, расточено; и Джеймс, стиснутый ее коленями, чувствовал, как она тянулась вверх вишневым деревом, розовым кипенем, в пляске ветвей и листьев принимая медный клюв, безжалостный ятаган его отца, эгоиста, который бил, бил, бил, требуя сочувствия.
Насытясь ее словами, затихнув, как кормленое дитя, он сказал наконец, взглянув на нее, растроганный, обновленный, взбодренный, что он немного пройдется; надо посмотреть, как дети играют в крикет. Он ушел.
Тотчас миссис Рэмзи словно сложилась, как складывается на ночь цветок, вся словно опала, и у нее едва хватало сил, предаваясь блаженной усталости, водить пальцем по строкам сказки Гриммов, и, как нежно бьется до предела растянутая и теперь стихающая пружина, в ней пульсом бился восторг удавшегося творения.
Каждый удар этого пульса сближал ее с мужем, шагающим прочь, обоих связывал утешением, какое дарят друг другу, сливаясь, два разные – один высокий, один низкий – струнные голоса. И все же, когда замер последний отзвук и она вернулась к волшебной сказке, миссис Рэмзи ощущала себя не просто физически опустошенной (так всегда бывало, не сразу, но после), к ощущению усталости примешивалось что-то смутно тоскливое, совсем из другой оперы. Не то чтобы, читая вслух о рыбаке и рыбке, она знала точно, откуда это взялось; и она бы себе не позволила выразить словами свою неудовлетворенность, когда, перевернув последнюю страницу и услышав, как плоско, зловеще упала волна, поняла, отчего это все: ей не хотелось ни на секунду чувствовать себя выше мужа; и потом, ужасно было неприятно, разговаривая с ним, самой не вполне верить в свои слова. Ну, конечно, она нисколечко не сомневалась, что все эти университеты и люди без него пропадут; что все эти его лекции, книги необходимы, как воздух; но их отношения, то, что он к ней подходит так, у всех на глазах – вот что негоже; ведь скажут – он от нее зависит, а им бы знать, что из них двоих он в тысячу раз важней и то, что дает миру она, с тем, что дает он, не идет ни в какое сравнение. Ну, и еще другое, – что она не смогла, не решалась сказать ему правду, например, насчет крыши в теплице, что починка встанет, может быть, в пятьдесят фунтов; и потом – насчет его книг – ведь она побаивалась, как бы он сам не догадывался о том, что смутно подозревала она: что последняя книга – не лучшая из его книг (это она заключила со слов Уильяма Бэнкса); и приходилось утаивать повседневные мелочи, и дети замечали, а им это вредно – и все вместе взятое отравляло общую радость, чистую радость двух сливающихся голосов, и уже их звук отдавался у нее в ушах, вялый и полый.
Тень легла на страницу. Это Август Кармайкл шаркал мимо, и сейчас, главное в тот момент, когда ей так неприятно было сознавать несовершенство человеческих отношений; даже лучшие из них – с червоточиной, не выдерживают досмотра, который, любя мужа и с этим своим правдолюбием, она затеяла вдруг; когда она сама была себе неприятна, когда так гадко было на душе от собственных преувеличений и лжи, которые даже мешают честному исполнению долга, главное, в самый тот момент, когда ей стало вдруг так тяжело, так тяжело после дивного настроения, мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, и черт дернул ее за язык спросить:
– Погуляли, мистер Кармайкл?
8Он ничего не ответил. Он принимал опиум. Дети видели – они говорили, – у него от опиума на бороде желтые пятна. Возможно. Ей было ясно одно – бедняга несчастен, каждый год приезжает к ним, как в прибежище; и однако же каждый год она чувствовала все то же – он ей не верит. Она говорила: «Я – в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» И чувствовала, как его передергивает. Он ей не верит. А все его жена. Она вспомнила, как непристойно жена с ним обращается. Сама она просто обомлела тогда, в этой их жуткой комнатенке на Сент-Джонс-Вуд, когда эта особа выпроваживала его из дома. Он неприбранный; роняет все на пиджак; нудный, как все старики, которым решительно нечего делать; и она его выпроваживала за дверь. Сказала в своем непристойном тоне: «Ну вот, миссис Рэмзи, нам с вами надо покалякать наедине», – и миссис Рэмзи будто собственными глазами увидела бесконечную цепь его унижений. На табак-то ему хоть хватает? Или каждый раз надо у ней клянчить? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Страшно, как подумаешь о всех этих мелких уколах, которые он от нее терпит. И вот (ну, разумеется, из-за жены, а то отчего бы) теперь он к ней плохо относится. Он ничего не говорит. Но что она может еще для него сделать? Ему отведена солнечная комната. Дети с ним милы. Ничем ни разу она не показала, что он ей не нужен. Из кожи, наоборот, лезет, чтоб ему угодить. Не хотите ли марок, не хотите ли табаку? Вот эта книга вам непременно понравится и прочее. И в конце-то концов, в конце концов (тут она невольно вся в буквальном смысле подобралась, вспомнив, что с ней редко бывало, о своей красоте) – в конце концов, ей обычно ничего не стоит понравиться человеку; Джордж Мэннинг, например; мистер Уоллис; знаменитые, кажется, люди, а захаживают же к ней на огонек поболтать наедине. При ней всегда, от этого никуда не денешься, – знамя красоты. Это знамя она высоко поднимает, переступая любой порог; и в конце концов, как ею ни пренебрегай, как ни тяготись ею – красота есть красота. И все всегда восхищаются ею. Ее любят. Она входит в комнаты, где сидят скорбящие. При ней проливаются слезы. Мужчины, да и женщины, сбрасывают тяжкий груз сложностей и при ней дают себе волю вести себя просто. Ее задевало, что он от нее шарахается. Было обидно. И все же – не совсем это так, не совсем то. Главное, неприятно, что именно в тот момент, когда мистер Кармайкл прошаркал мимо в своих желтых шлепанцах, с книгой под мышкой, едва кивнул на ее вопрос, к ее досаде на мужа примешалось чувство, что ей не доверяют; что вся ее эта жажда давать, помогать – сплошное тщеславие. Не для собственного ли удовольствия ей так не терпится помогать, давать, чтоб потом говорили: «Ах, миссис Рэмзи! Милая миссис Рэмзи… миссис Рэмзи вообще…» и нуждались бы в ней, посылали за ней, ее восхваляли? Не того ли она втайне желает? И потому, когда мистер Кармайкл шарахнулся от нее, пробираясь в укромный уголок, чтоб засесть там за дежурным акростихом, ее не просто оскорбили в лучших чувствах, ей указали на известную мелкость в ней самой и в человеческих отношениях – что они с червоточиной, недостойны, эгоистичны – даже самые лучшие из отношений. Усталая, измученная и, вероятно (щеки впали, волосы поседели), не такая уже отрада для взоров – не обязана ли она сосредоточиться на сказке о рыбаке и рыбке и умиротворить этот комок нервов (остальные все – дети как дети) – своего сына Джеймса?
«Опечалился рыбак, – прочла она вслух. – Не хотелось ему идти. Неправильно это было. Но делать нечего, пошел он к морю. Смотрит – а вода в море синяя, серая, темная, уже не зеленая, не ясная, как прежде, но покуда еще спокойная. И сказал рыбак…»
Миссис Рэмзи предпочла бы, чтобы тут муж ее не остановился. Сказал же, что пойдет посмотреть, как дети играют в крикет, ну и шел бы. Но он ни слова не произнес; он глянул; он кивнул; кивнул поощрительно; и двинулся дальше.
Он соскальзывал, глядя на эту изгородь, которая столько уже раз отчеркивала паузу, подводила итог, глядя на жену и на сына, снова глядя на урну с красными никнущими геранями, которые так часто оттеняли ход его мыслей и хранили их на листах, как попавшие под руку в угаре чтения клочки бумаги хранят наши записи, – глядя на все это, он тихо соскальзывал в размышления по поводу статьи в «Таймсе» относительно числа американских туристов, ежегодно посещающих домик Шекспира. Не будь никогда на свете Шекспира, спрашивал он себя, много ли переменился бы теперешний мир? Зависит ли прогресс цивилизации от великих людей? Улучшилась ли участь среднего человека со времен фараонов? Является ли участь среднего человека критерием, по которому мерится уровень цивилизации? Нет, вероятно. Вероятно, для высшего блага общества требуется существование рабов. Служитель при лифте есть непреложная необходимость. Мысль показалась ему неприятна. Он запрокинул голову. Не надо, не надо; лучше найти лазейку и несколько снизить роль искусств. Он готов доказывать, что мир существует для среднего человека; что искусства – лишь побрякушки на человеческой жизни; они ее не выражают. И Шекспир никакой ей не нужен. Сам не зная, зачем ему понадобилось низводить Шекспира и бросаться на выручку к служителю, вечно торчащему при дверях лифта, он дернул с изгороди листок. Всем этим можно попотчевать через месяц юнцов в Кардиффе, подумал он; здесь, на этой лужайке, он только пробавляется, только пасется (он отбросил содранный в таком раздражение листок), как кто-то, свесясь с коня, набирает охапку роз или набивает карманы орехами, топча наобум поля и луга с детства знакомой округи. Все тут такое знакомое; тот поворот, тот плетень, тот перелаз. Вечерами, посасывая трубку, он может вдоль и поперек обшарить мыслью знакомые стежки и выгоны, кишащие биографиями, и баталиями, и преданиями, и стихами, и живыми фигурами – там воин, а там и поэт; и все отчетливо, четко. Но всегда перелаз, поле, выгон, орешник и живая цветущая изгородь в конце концов выводят его к дальнему повороту дороги, где он спешивается, оставляет на оброти коня и дальше идет пеший, один. Он дошел до края лужайки и глянул вниз, на бухту.
Хочешь не хочешь, а такая судьба у него, такой уж заскок – вот так убегать на узкий край земли, постепенно смываемый морем, и стоять одинокой печальной птицей. Такая уж власть у него, такой дар – вдруг сбрасывать лишнее, скудеть и сжиматься, даже физически себя чувствовать вдруг похудевшим, но ничуть не теряя пронзительности ума, стоять на утесе один на один с темнотою людского неведения (мы ничего не знаем про то, как море слизывает почву у нас из-под ног) – уж такая судьба у него, такой дар. Но поскольку он, спешиваясь, сбрасывает все жесты, условности, всю добычу из орехов и роз и так сжимается, что не то что о славе не помнит, не помнит и своего имени, он сохраняет в своей одинокости зоркость, не терпящую мнимостей, не тешащуюся видениями, и таким вот манером вызывает он у Уильяма Бэнкса (переменчивого) и Чарльза Тэнсли (раболепного), а сейчас у жены (она вскинула взгляд, смотрит, как он стоит на краю лужка) чувства восхищения, жалости и еще благодарности, как бакен на фарватере, приманивающий волны и чаек, вызывает у веселых матросов благодарность за то, что взял на себя тяжкий долг одиноко означать глубины.
«Но отец восьмерых детей не имеет выбора…» Пробормотал это себе под нос, оборвал свои мысли, повернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читавшую сыну сказку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища людского неведения, и судьбы людской, и моря, слизывающего почву у нас из-под ног, зрелища, которое, будь у него возможность его рассмотреть подетальней, навело бы на какие-то выводы; и вот нашел утешение в пустяках, столь несопоставимых с прежней высокой темой, что готов был перечеркнуть свою радость, от нее отпереться, как будто попасться с поличным на радости в нашем многострадальном мире для порядочного человека кошмарнейшее преступление. Да, положим; он, в сущности, счастлив; у него такая жена; такие дети; через месяц он подрядился молоть разную белиберду перед юнцами в Кардиффе про Локка, и Юма, и Беркли, про истоки Французской революции. Но все это, и удовольствие, которое ему давало все это, собственные фразы, красота жены, восхищение юнцов, знаки признания из Соунси, Кардиффа, Эксетера, Саутхэмптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа – все приходилось презирать и прятать под фразой «молоть разную белиберду» – ведь на самом-то деле он не осуществил того, что мог бы осуществить. Это маска; скрытность человека, который боится себя проявить, не может прямо сказать: «Вот что я люблю, вот кто я»; что и раздражало Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, и они недоумевали, зачем эта скрытность нужна; зачем ему вечно нужны похвалы; почему человек такой дерзостной мысли – в жизни так робок; и удивительно даже, как он одновременно достоин восхищения и смешон.
Выше сил человеческих – проповедовать и учить, – предположила Лили. (Она принялась складывать кисти.) Если чересчур высоко вознесешься, уж непременно брякнешься оземь. Миссис Рэмзи слишком ему потакает. И потом – эти резкие перепады. Он отрывается от своих книг и видит, как мы бьем баклуши и мелем вздор. Вообразите, какой перепад после его возвышенных мыслей, – сказала она.
Он направился к ним. Вот застыл, стал в молчание смотреть на море. Вот снова двинулся прочь.
9– Да, – сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. – Страшно досадно. (Лили что-то говорила про то, как он ее огорошивает этими своими резкими перепадами настроения.) Да, – сказал мистер Бэнкс, – страшно досадно, что Рэмзи совершенно не умеет вести себя по-людски. (Лили Бриско ему нравилась. Он мог говорить с ней о Рэмзи вполне откровенно.) Потому-то, – сказал он, – нынешняя молодежь и не читает Карлейля. Старый злобный брюзга вскидывался, когда ему подавали остывшую кашу, – и этот еще будет нас поучать? Так, думалось мистеру Бэнксу, говорит нынешняя молодежь. Страшно досадно, если считать, как считает, скажем, он сам, Карлейля величайшим учителем человечества. Лили призналась, что, к стыду своему, со школьных времен не читала Карлейля. Но ей лично мистер Рэмзи даже симпатичнее оттого, что царапину на своем мизинце он приравнивает к мировой катастрофе. Это бы еще полбеды. Но ведь кого он обманет? Он у вас открыто выклянчивает восхищения, лести, своими мелкими уловками он никого не обманет. И ей претит эта его узость, эта его слепота, – сказала она, глядя в удаляющуюся спину.
– Чуть-чуть лицемер? – предположил мистер Бэнкс, тоже глядя на удаляющегося мистера Рэмзи, и разве он не думал о его дружбе и о том, как Кэм не захотела ему подарить цветок, и про всех этих девчонок и мальчишек, и про свой собственный дом, такой уютный, но притихший после смерти жены? Да, конечно, у него остается работа… Тем не менее ему страшно хотелось, чтоб Лили согласилась с ним, что Рэмзи, как он выразился, «чуть-чуть лицемер».
Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая глаза, то опуская. Подняла глаза – мистер Рэмзи шел прямо на них, вперевалку, небрежный, рассеянный, отвлеченный. Чуть-чуть лицемер? – повторила она. Ох, нет – искреннейший из людей, самый честный (вот он, идет), самый лучший; но она опустила глаза и подумала: он слишком занят собой, он тираничен, капризен; и она нарочно не поднимала глаз, потому что только так и можно сохранять беспристрастность, когда гостишь у этих Рэмзи. Едва поднимешь глаза и на них глянешь, их окатывает твоею, как это у нее называлось, «влюбленностью». Они превращаются в частицу того невозможного, дивного целого, каким мир делается в глазах любви. К ним ластится лето; ласточки летают для них. И еще даже восхитительней, поняла она, увидев, как мистер Рэмзи передумал и шагает прочь, и миссис Рэмзи сидит с Джеймсом в окне, и плывут облака, и клонится ветка, – что жизнь, складываясь из случайных частностей, которые мы по очереди проживаем, вдруг вздувается неделимой волной, и она подхватывает тебя, и несет, и с разгона выплескивает на берег.
Мистер Бэнкс ждал от нее ответа. И она собралась уже что-то сказать в осуждение миссис Рэмзи, что и она, мол, не идеал, слишком властная, или что-то в подобном роде, когда все это вдруг оказалось не к месту, потому что мистер Бэнкс был в восторге. Именно так, и не иначе, если учесть его шестой десяток и его чистоту, беспристрастность и как бы облекший его белоснежный покров науки. Восторг на лице мистера Бэнкса, смотревшего на миссис Рэмзи, понимала Лили, стоил любви десятка юнцов (хотя не известно еще, удавалось ли миссис Рэмзи стяжать любовь десятка юнцов). Это любовь, – думала она, якобы занявшись холстом, – профильтрованная, очищенная; не цепляющаяся за свой предмет; но, как любовь математика к своей теореме или поэта к строфе, призванная распространиться по всему миру, стать достоянием человечества. Вот такая любовь. И миру неизбежно бы пришлось ее разделить, окажись мистер Бэнкс в состоянии растолковать, чем эта женщина так его пленяет; отчего, глядя, как она читает сыну волшебную сказку, он ликует в точности так же, как если б вот сейчас разрешил научную проблему, доказал нечто неоспоримое о пищеварение растений и тем самым навеки одолел варварство и поборол хаос.