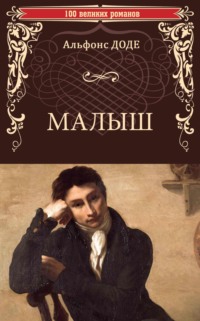
Малыш
А в это время господин философ прохаживался взад и вперед по палубе, заложив руки в карманы и подставляя лицо свое ветру. Он насвистывал, лихо сплевывал, заглядывал под шляпы дам, наблюдал за управлением судна, играл плечами, находил себя неотразимым. Еще не доехали до Вьенн, а он уже успел сообщить старшему повару и двум поваренкам, что он поступил на службу по учебному ведомству и очень хорошо зарабатывает. Они поздравляли его, и он чувствовал себя довольным и гордым.
Разгуливая по палубе, наш философ наткнулся на лежавшую неподалеку от большого колокола груду канатов, на которых шесть лет тому назад просиживал долгие часы Робинзон Крузо, держа на коленях клетку с попугаем. Это воспоминание заставило его рассмеяться и слегка покраснеть.
«Как я, вероятно, был смешон, – подумал он, – со своей голубой клеткой и этим фантастическим попугаем…»
Бедный философ! Он и не подозревал тогда, что на всю жизнь был обречен так нелепо таскать за собой голубую, цвета иллюзии, клетку и зеленого, цвета надежды, попугая…
Увы! Сейчас, когда я пишу эти строки, бедный малый все еще продолжает носить с собой эту большую голубую клетку! Только лазоревая краска ее бледнеет с каждым днем, а зеленый попугай полинял и потерял уже больше половины своих перьев… Увы!..
По приезде в родной город Малыш прежде всего отправился в Академию, где жил ректор.
Этот ректор, друг Эйсета-отца, был высокий, красивый сухощавый старик, очень подвижной, без тени педантизма. Эйсета-сына он принял очень приветливо, но тем не менее не мог удержаться от жеста изумления, когда того ввели к нему в кабинет.
– Ах, боже мой! – воскликнул он. – Какой же он маленький!
Дело в том, что Малыш действительно был до смешного мал ростом и казался совсем еще мальчиком, тщедушным мальчиком.
Восклицание ректора было для него ошеломляющим ударом. «Они не захотят меня принять», – подумал он, задрожав всем телом.
К счастью, точно угадав, что творилось в этой бедной маленькой голове, ректор продолжал:
– Подойди ко мне, мой мальчик… Так, значит, мы сделаем из тебя классного наставника?.. В твои годы, с твоим ростом и всей твоей внешностью эта работа будет для тебя нелегка… Но раз это нужно, раз тебе необходимо зарабатывать, мы постараемся устроить все это как можно лучше… Для начала мы не поместим тебя в слишком большое заведение… Я отправлю тебя в коммунальную школу, находящуюся в горах, в нескольких лье отсюда… Там ты станешь настоящим человеком, привыкнешь к своей работе, вырастешь, и, когда у тебя на подбородке появится пушок, мы посмотрим, что делать дальше…
Говоря это, ректор писал записку директору Сарландского коллежа, рекомендуя ему своего протеже. Кончив письмо, он отдал его Малышу, посоветовав ему уехать в тот же день. Затем дал ему несколько благих советов и дружески потрепал по щеке, обещая не терять его из виду.
Теперь мой Малыш спокоен и доволен. Он кубарем слетает с вековой лестницы Академии и, не переводя духа, бежит занять место в дилижансе, который отправляется в Сарланд.
Но дилижанс отправлялся только после полудня, надо ждать еще целых четыре часа. Малыш пользуется этим временем для того, чтобы пройтись по залитой солнцем эспланаде и показаться своим соотечественникам. Исполнив этот долг, он начинает подумывать о подкреплении своих сил и отправляется на поиски какого-нибудь кабачка, который был бы ему по карману… Как раз напротив казарм ему бросается в глаза небольшой кабачок, очень чистенький, с красивой новой вывеской:
«Приют странствующих подмастерьев»
«Вот это как раз для меня», – думает он и, после некоторого колебания (Малыш в первый раз в жизни собирается войти в ресторан), с решительным видом открывает дверь.
Кабачок в эту минуту совершенно пуст. Выбеленные известкой стены… Несколько небольших дубовых столиков… В одном углу длинные палки подмастерьев с медными наконечниками, украшенные разноцветными лентами… За стойкой, уткнув нос в газету, храпит какой-то толстяк.
– Эй, есть тут кто-нибудь? – кричит Малыш, стуча кулаком по столу жестом трактирного завсегдатая.
Сидящий за стойкой толстяк не считает нужным проснуться из-за такого пустяка; но из соседней комнаты выбегает трактирщица… Увидав нового посетителя, посланного ей провидением, она громко вскрикивает:
– Праведное небо! Господин Даниэль!
– Анну! Старая моя Анну! – в свою очередь восклицает Малыш. И вот они уже в объятиях друг друга.
Да, да, это Анну, старая Анну, бывшая прислуга Эйсетов, а теперь трактирщица, мать «товарищей»[8], жена Жана Пейроля, этого толстяка, который храпит там, за стойкой… И если бы вы знали, как она счастлива, эта славная Анну, как счастлива, что снова видит господина Даниэля? Как она его целует! Как обнимает! Как душит в своих объятиях!
Во время этих излияний сидящий за стойкой толстяк просыпается.
Сначала его немного удивляет горячность приема, оказываемого его женой юному незнакомцу, но когда он узнает, что этот молодой незнакомец не кто иной, как сам господин Даниэль Эйсет, Жан Пейроль краснеет от удовольствия и начинает услужливо суетиться возле знатного посетителя.
– Вы завтракали, господин Даниэль?
– Нет, не завтракал, добрейший господин Пейроль… Потому-то я и зашел сюда!
Боже правый!.. Господин Даниэль не завтракал!.. Скорей, скорей… Анну спешит в кухню; Жан Пейроль мчится в погреб, – славный погреб, по отзыву странствующих подмастерьев.
В один миг прибор поставлен, завтрак подан, – Малышу остается только сесть за стол и начать действовать… По левую его руку стоит Анну и режет ему тоненькие ломтики хлеба для яиц – свежих, белых, нежных, как пух, яиц. По правую руку – Жан Пейроль наливает ему старого Шато Нефа, которое сверкает в его стакане, точно горсть рубинов. Малыш счастлив; он пьет, как какой-нибудь тамплиер, ест, как монах странноприимного ордена св. Воина, а между двумя глотками успевает еще сообщить о своем поступлении на службу по учебному ведомству и о том, что это даст ему возможность честно зарабатывать свой хлеб. Нужно было слышать, каким тоном он произносит эти слова: честно зарабатывать свой хлеб. Старая Анну вне себя от восхищенья.
Энтузиазм Жана Пейроля не столь горяч. Он находит вполне естественным, что господин Даниэль зарабатывает свой хлеб, раз он в состоянии это делать. В возрасте господина Даниэля он, Жан Пейроль, уже около пяти лет странствовал один по белу свету и ни лиара не стоил родным. Напротив…
Вполне понятно, что почтенный трактирщик ни с кем не делится своими размышлениями. Осмелиться сравнивать Жана Пейроля с Даниэлем Эйсетом!.. Анну никогда не потерпела бы этого.
Малыш тем временем чувствует себя прекрасно. Говорит, пьет, ест; он оживлен, глаза его блестят, щеки пылают… О-ля! Хозяин! Несите скорее стаканы. Малыш желает чокнуться… Сначала пьют за здоровье госпожи Эйсет, потом за здоровье господина Эйсета, потом за Жака, за Даниэля, за старую Анну, за ее мужа, за университет… За что еще?..
Два часа проходят в этих излияниях и в болтовне. Говорят о мрачном прошлом, о розовом будущем. Вспоминают фабрику, Лион, улицу Лантерн, вспоминают бедного аббата, которого все так любили…
Но вот Малыш встает из-за стола. Пора ехать.
– Уже?! – грустно говорит Анну.
Малыш извиняется: ему необходимо с кем-то повидаться перед отъездом. По очень важному делу… Как жаль! Было так хорошо. И сколько хотелось бы еще рассказать!.. Но, разумеется, раз это нужно, раз господин Даниэль должен кого-то повидать, то его друзья из «Странствующего подмастерья» не будут его больше задерживать… Счастливого пути, господин Даниэль! Да хранит вас Бог, дорогой наш хозяин! И, уже выйдя на улицу, Жан Пейроль и его жена все еще продолжают напутствовать его своими пожеланиями.
А известно ли вам, между прочим, кто этот «тот», кого Малышу так хочется повидать перед своим отъездом из города?
Это – фабрика! Фабрика, которую он так любил и так оплакивал… Сад, мастерские, большие платаны… Все друзья его детства, радости первых лет его жизни… Что поделаешь? Сердце имеет свои слабости; оно может любить даже дерево, даже камни, даже фабрику… К тому же сама история говорит, что старый Робинзон, вернувшись в Англию, снова отправился в плаванье и сделал не одну тысячу лье для того, чтобы снова посетить свой пустынный остров.
Неудивительно поэтому, если Малыш прошел несколько лишних шагов, чтобы увидеть свой пустынный остров.
Высокие платаны, своими султанообразными макушками выглядывавшие из-за крыш домов, уже узнали своего старого друга, бежавшего к ним со всех ног. Издали они приветствуют его и наклоняются друг к другу, точно желая сказать: «Ведь это – Даниэль Эйсет! Даниэль Эйсет вернулся!!»
И он спешит, спешит, но, дойдя до фабрики, останавливается, пораженный.
Перед ним высокие серые стены, из-за которых не выглядывают ни ветви олеандров, ни ветви гранатового дерева… Прежних окон нет – одни только слуховые окошки… Нет и мастерских: вместо них – часовня. Над дверью большой крест из красного песчаника с латинской надписью вокруг…
Увы! Фабрики больше уже нет: она превратилась в монастырь кармелиток, куда мужчинам вход воспрещен!
Глава V
Зарабатывай свой хлеб
Сарланд – небольшой городок в Севеннах, построенный в глубине узкой долины, окруженной горами, точно высокой стеной. Когда в него проникает солнце, он превращается в раскаленную печь, а когда дует северный ветер – в ледник.
Вечером в день моего приезда северный ветер, дувший с утра, продолжал неистовствовать, и, хотя была уже весна, Малыш, сидевший на империале[9] дилижанса, чувствовал, въезжая в город, как холод пробирает его до костей.
Улицы были темны и пустынны… На площади несколько человек в ожидании дилижанса расхаживали взад и вперед перед плохо освещенной конторой.
Спустившись с империала, я, не теряя ни минуты, попросил проводить меня в коллеж. Я торопился вступить в исполнение своих обязанностей.
Здание коллежа помещалось неподалеку от городской площади. Пройдя две или три широкие тихие улицы, человек, несший мой чемодан, остановился перед большим домом, в котором все, казалось, давным-давно уже вымерло.
– Вот здесь, – сказал он, поднимая дверной молоток.
Молоток тяжело опустился… Дверь отворилась… Мы вошли.
С минуту я ждал в полутемных сенях. Носильщик положил на пол мой чемодан, я расплатился с ним, и он поспешно ушел… Массивная дверь тяжело захлопнулась за ним… Вслед за тем ко мне подошел заспанный швейцар с фонарем в руке.
– Вы, должно быть, новенький? – спросил он меня сонным голосом.
Он принял меня за ученика…
– Я совсем не ученик, – ответил я, гордо выпрямляясь, – я приехал сюда в качестве учителя, проведите меня к директору.
Швейцар был, по-видимому, удивлен; приподняв слегка свою фуражку, он пригласил меня зайти на минутку в его комнату. Директор с учениками был в церкви.
Меня проводят к нему, как только кончится вечерняя служба.
В каморке швейцара кончали ужинать. Высокий красивый малый с белокурыми усами тянул из стакана водку, сидя рядом с маленькой, худощавой, болезненного вида женщиной, желтой, как айва, и закутанной до самых ушей в старую шаль.
– В чем дело, господин Кассань? – спросил малый о усами.
– Это новый учитель, – ответил швейцар, указывая на меня. – Господин такого маленького роста, что я было принял его за ученика.
– Дело в том, – сказал человек с усами, глядя на меня поверх своего стакана, – что у нас есть ученики, которые не только выше ростом, но и старше, чем вы… Велльон старший, например.
– И Круза, – прибавил швейцар.
– И Субейроль, – сказала женщина.
Они стали разговаривать между собой вполголоса, уткнувшись носами в свою противную водку и искоса поглядывая на меня… С улицы доносился вой ветра и крикливые голоса учеников, певших в часовне молитвы.
Наконец раздался звон колокола, и в вестибюле послышался шум шагов.
– Служба кончилась, – сказал мне господин Кассань, вставая. – Пойдемте к директору.
Он взял фонарь, и я последовал за ним.
Здание коллежа показалось мне необъятным… Бесконечные коридоры, громадные лестницы с железными узорчатыми перилами… Все очень старое, почерневшее, закопченное… Швейцар сообщил мне, что до 89-го года[10] в этом здании помещалось Морское училище, в котором насчитывалось около восьмисот учеников, принадлежавших к самым старинным дворянским семьям.
Пока он сообщал мне все эти ценные сведения, мы подошли к кабинету директора… Господин Кассань тихонько приоткрыл двойную, обитую клеенкой дверь и два раза постучал по деревянной панели.
– Войдите, – ответил голос из комнаты, и мы вошли. Это был очень большой рабочий кабинет, оклеенный зелеными обоями. В глубине за длинным столом сидел директор и писал при бледном свете лампы с низко опущенным абажуром.
– Господин директор, – сказал швейцар, подталкивая меня вперед, – вот новый классный надзиратель, приехавший на место господина Серьера.
– Хорошо, – произнес директор, не оборачиваясь. Швейцар поклонился и вышел. Я продолжал стоять посреди комнаты, теребя пальцами шляпу.
Кончив писать, директор обернулся ко мне, и я мог хорошо рассмотреть его маленькое, бледное, худое лицо, освещенное холодными, бесцветными глазами. Он в свою очередь, чтобы лучше меня разглядеть, приподнял абажур лампы и нацепил на нос пенсне.
– Да ведь это ребенок! – воскликнул он, привскочив в кресле. – Что я буду делать с ребенком?!
При этих словах Малышом овладел безумный страх: он уже видел себя на улице без всяких средств… Он едва мог пробормотать два-три слова и передать директору рекомендательное письмо.
Директор взял письмо, прочел его, сложил, развернул, перечел еще раз и, наконец, сказал мне, что благодаря совершенно исключительной рекомендации ректора и из уважения к моей почтенной семье он соглашается взять меня к себе, несмотря на то, что его пугает моя чрезмерная молодость. Потом он пустился в длинные рассуждения о важности моих новых обязанностей, но я его больше не слушал. Самым существенным было то, что меня не отсылали обратно. Меня не отсылали, и я был счастлив, безумно счастлив! Я хотел бы, чтобы директор имел тысячу рук и чтобы я мог их все перецеловать.
Страшный лязг железа остановил мой порыв. Я быстро обернулся и очутился перед высоким человеком с рыжими бакенбардами, неслышно вошедшим в кабинет. Это был инспектор коллежа.
Склонив набок голову, как на картине «Ессе Homo»[11], он смотрел на меня с самой ласковой улыбкой, побрякивая связкой ключей всевозможных размеров, висевших на его указательном пальце. Эта улыбка расположила бы меня в его пользу, но его ключи бренчали так грозно: «дзинь! дзинь! дзинь!», что мне сделалось страшно.
– Господин Вио, – сказал директор, – вот заместитель господина Серьера.
Вио поклонился и улыбнулся мне самой обворожительной улыбкой. Но его ключи зазвенели со злобной иронией, точно желая сказать: «Этот маленький человечек – заместитель Серьера? Полноте! Полноте!»
Директор, также как и я, понял, что сказали ключи, и прибавил со вздохом:
– Я знаю, что уход господина Серьера для нас страшная, почти незаменимая потеря (при этих словах ключи буквально зарыдали…), но я убежден, что если вы, господин Вио, возьмете нового репетитора под свое особое покровительство и поделитесь с ним своими драгоценными взглядами на преподавание, то порядок и дисциплина заведения не особенно пострадают от ухода господина Серьера.
По-прежнему ласковый и улыбающийся, господин Вио ответил, что я могу рассчитывать на его благосклонность и что он с удовольствием поможет мне своими советами. Но ключи его не были ко мне благосклонны. Нужно было только послушать, как они звенели и в бешенстве скрежетали: «Если ты только шевельнешься, жалкий глупец, – берегись!»
– Господин Эйсет, – закончил директор, – вы можете теперь идти. Эту ночь вам придется провести еще в гостинице. Завтра в восемь часов утра будьте здесь… До свидания…
Жестом, полным достоинства, он отпустил меня.
Более чем когда-либо ласковый и улыбающийся, господин Вио проводил меня до двери и, прощаясь со мной, сунул мне в руку маленькую тетрадку.
– Это устав заведения, – сказал он, – прочтите и хорошенько поразмыслите.
Затем он открыл дверь и запер ее за мной, выразительно зазвенев ключами: «дзинь! дзинь! дзинь!»
Эти господа забыли посветить мне… Несколько минут я блуждал по большим, совершенно темным коридорам, стараясь ощупью найти дорогу. Кое-где слабый свет луны проникал через решетку высокого окна и помогал мне ориентироваться. Вдруг во мраке галереи сверкнула блестящая точка, двигавшаяся мне навстречу… Я сделал еще несколько шагов, светящаяся точка увеличилась, приблизилась ко мне, прошла мимо, удалилась и исчезла. Это было точно видение, но как ни мимолетно оно было, я все же уловил малейшие его детали.
Представьте себе двух женщин, две тени… Одна старая, сморщенная, согнутая вдвое, с громадными очками на носу, закрывающими половину ее лица; другая молодая, стройная, легкая и тонкая, как все привидения, но с глазами, каких обычно не бывает у привидений, – такими большими и такими черными… Старуха держала в руках маленькую медную лампочку. Черные глаза ничего не несли… Обе тени промелькнули мимо, быстрые, безмолвные, не видя меня, и долго после их исчезновения я все еще стоял на том же месте под двойственным впечатлением очарования и страха.
Я ощупью продолжал свой путь, но сердце мое сильно билось, и я все видел перед собой во мраке страшную колдунью в больших очках, а рядом с нею Черные глаза…
Однако мне необходимо было найти пристанище на ночь, а это было дело нелегкое. К счастью, человек с белокурыми усами, который курил трубку в дверях швейцарской, пришел мне на помощь и предложил проводить в небольшую приличную гостиницу, не очень дорогую, где за мной будут ухаживать, как за принцем. Можете себе представить, с каким удовольствием я принял это предложение!
Мой спутник производил впечатление доброго малого. Я узнал дорогой, что его зовут Рожэ, что он учитель танцев, верховой езды, фехтования и гимнастики в Сарландском коллеже и что он долго служил в африканских стрелках. Это последнее обстоятельство окончательно расположило меня к нему. Детям свойственно любить военных. Мы расстались у входа в гостиницу, обменявшись крепким рукопожатием и обещанием сделаться друзьями.
А теперь, читатель, мне нужно сделать тебе одно признание.
Когда Малыш очутился один в холодной комнате, перед кроватью этой незнакомой и такой банальной гостиницы, вдали от тех, кого он любил, – сердце его не выдержало, и этот философ расплакался, как ребенок. Жизнь пугала его теперь. Он чувствовал себя слабым и безоружным перед нею и плакал, плакал… Но вдруг, среди слез, образ его близких пронесся перед его глазами; он увидел свой дом опустевший, семью рассеянной по всему свету, – мать здесь, отец там… Ни крова, ни домашнего очага!.. И, забыв свое личное горе, думая только об общем несчастье, Малыш принял великое, благородное решение: собственными силами воссоздать дом Эйсета и восстановить семейный очаг. Гордый сознанием, что нашел благородную цель жизни, он отер слезы, недостойные мужчины и «восстановителя семейного очага», и, не теряя ни минуты, принялся за чтение устава господина Вио, желая поскорее ознакомиться со своими новыми обязанностями.
Этот устав, любовно переписанный рукою самого Вио, его автора, представлял собой настоящий трактат из трех частей:
1) обязанности репетитора по отношению к начальству;
2) обязанности репетитора по отношению к его коллегам;
3) обязанности репетитора по отношению к ученикам. Там были предусмотрены все случаи, от разбитого оконного стекла до одновременного поднятия обеих рук во время занятий; все подробности жизни учителей и классных надзирателей были отмечены, начиная с их жалованья и кончая полубутылкой вина, на которую они имели право за каждой едой.
Устав кончался красноречивой тирадой, восхвалением всех этих правил; но, несмотря на все свое уважение к произведению господина Вио, у Малыша не хватило сил довести чтение до конца, и как раз на самом патетическом месте он заснул…
Эту ночь я спал плохо. Тысячи фантастических сновидений тревожили мой сон… То мне казалось, что я слышу ужасный звон ключей господина Вио: «дзинь! дзинь! дзинь!», то старая колдунья с большими очками садилась у моего изголовья, и я в испуге внезапно пробуждался; то Черные глаза (о! какие они были черные!) появлялись в ногах моей кровати и смотрели на меня с каким-то странным упорством…
На другой день в восемь часов утра я был уже в коллеже. Господин Вио, стоя в дверях со связкой ключей в руках, наблюдал за приходом экстернов и приветствовал меня самой ласковой улыбкой.
– Подождите в вестибюле, – сказал он мне, – когда ученики соберутся, я познакомлю вас с вашими коллегами.
Я стал расхаживать взад и вперед по вестибюлю, кланяясь чуть не до земли старшим преподавателям, которые, запыхавшись, пробегали мимо меня. Только один из этих господ ответил на мой поклон. Это был священник, преподаватель философии, «большой чудак», по словам господина Вио… Я сразу полюбил этого чудака.
Прозвонил звонок, классы наполнились… Четверо или пятеро молодых людей двадцати пяти или тридцати лет, плохо одетые, с бесцветными лицами, бежали по коридору и остановились как вкопанные при виде господина Вио.
– Господа, – проговорил инспектор, указывая на меня, – вот господин Даниэль Эйсет, ваш новый коллега. – Сказав это, он отвесил низкий поклон и удалился, как всегда улыбающийся, склонив голову набок и, как всегда, звеня своими ужасными ключами.
Мои коллеги и я молча рассматривали друг друга.
Первым заговорил самый высокий и толстый из них; это был господин Серьер, знаменитый Серьер, которого я должен был заместить.
– Черт возьми, – вскричал он весело, – вот уж, правда, можно сказать, что учителя, как дни, следуют один за другим, но не походят друг на друга.
Это был намек на громадную разницу в росте между нами. Все рассмеялись, и я первый, но уверяю вас, что в эту минуту Малыш охотно продал бы свою душу дьяволу, чтобы только быть на несколько дюймов повыше.
– Это ничего, – прибавил толстый Серьер, протягивая мне руку, – хотя мы с вами и не подходим под одну мерку, мы все же можем распить вместе несколько бутылочек. Идемте с нами, коллега… Я угощаю всех прощальным пуншем в кафе «Барбет» и хочу, чтобы вы тоже присутствовали… Мы лучше познакомимся за стаканами.
И, не дав мне времени ответить, он взял меня под руку и увлек на улицу.
Кафе «Барбет», куда меня повели мои новые коллеги, находилось на плац-параде. Его посещали главным образом унтер-офицеры местного гарнизона, и при входе в него прежде всего бросалось в глаза множество киверов и портупей, висевших на вешалках…
В этот день отъезд Серьера и его прощальный пунш привлекли в кафе всех его «завсегдатаев».
Унтер-офицеры, с которыми меня познакомил Серьер, отнеслись ко мне очень радушно. Но, сказать по правде, появление Малыша не произвело большой сенсации, и я очень скоро был забыт в том углу залы, куда я, смущенный, удалился… Пока наполнялись стаканы, ко мне подсел толстый Серьер. Он был без сюртука и держал в зубах длинную глиняную трубку, на которой красовалось его имя, сделанное фарфоровыми буквами. Весь учебный персонал школы имел в кафе «Барбет» такие же трубки.
– Ну, коллега, – сказал мне толстый Серьер, – как видите, в нашей профессии бывают и хорошие минуты… В общем вы удачно попали, выбрав для своего дебюта Сарланд. Во-первых, абсент в кафе «Барбет» превосходен, а, во-вторых, там, в коробке, вам будет не так уж плохо.
«Коробкой» он называл коллеж.
– У вас будет младший класс, шалуны, мальчишки, которых надо держать в строгости. Вы увидите, как я великолепно их вышколил. Директор не злой человек, коллеги хорошие малые; вот только старуха и этот Вио…
– Какая старуха? – с трепетом спросил я.
– О, вы скоро узнаете ее. Во все часы дня и ночи ее можно встретить шныряющей по коллежу с огромными очками на носу. Это тетка директора. Она исполняет здесь обязанности экономки. Ну и ведьма! Если мы до сих пор не умерли с голоду, то это не по ее вине.
По этому описанию я узнал колдунью в очках и невольно покраснел. Раз десять я готов был прервать моего коллегу и спросить: «А Черные глаза»… Но я не осмелился. Говорить о Черных глазах в кафе «Барбет»!!
Между тем пунш совершал круговую; пустые стаканы наполнялись, полные осушались, раздавались тосты, возгласы: «о! о!», «а! а!», бильярдные кии мелькали в воздухе, все толкались, громко смеялись, сыпали каламбурами, делали друг другу признания.
Мало-помалу Малыш почувствовал себя смелее; он вышел из своего угла и со стаканом в руке, громко разговаривая, прохаживался по кафе.
Унтер-офицеры были теперь его друзьями. Одному из них он, не краснея, рассказал, что происходит из богатой семьи, но за свойственные молодым людям легкомысленные поступки изгнан из родительского дома; что он временно поступил на службу в коллеж для того, чтобы иметь средства к существованию, но что оставаться там долго он не собирается… Имея таких богатых родителей, понимаете…