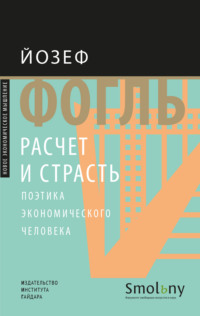
Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
Итак, как представляется, таковы основные черты логики и перспективы просвещенческого государствоведения, исходя из которых обретает свое место и свою основополагающую систематизацию вопрос о «действительном человеке». При этом данный предмет уже не мыслится субстанциально, теперь это человек в контексте актуальных поведенческих модусов и связей, у которого любое определение и любое отношение к самому себе вызывает проблему многочисленных и ненадежных корреляций, как это можно проследить на примере растущего интереса к концепциям «самосохранения» и «себялюбия»[88]. Поэтому в самую глубину его существа вписана специфическая неопределенность, отчетливо проявляющаяся лишь в социальной коммуникации и становящаяся детерминирующим фактором в сфере политического знания. И в конечном счете это наводит на мысль, что отныне всякая антропология также должна рассматриваться из перспективы антропологии политической или прагматической[89]. Таким образом, систематизация политического знания и генезис систематически понимаемой антропологической фигуры оказываются неразрывно взаимосвязанными. С конца XVII столетия действительность человека и конъюнктура антропологического вопроса занимают место отсутствующей теории общества и укореняются в просвещенческих социально-политических представлениях[90], которые в итоге в конце XVIII века изменяются на основе концепции «тройственного» человека и его корреляций: ноуменального или «метафизического» человека, который не дан в качестве объекта в созерцании; «естественного», который в своего рода контрарной фикции экстраполируется на начало вещей; и человека, искусственно сделанного или «симулированного», который конституируется как некая переменная и момент неопределенности в непрозрачной среде законов своего социального движения[91].
Механика страстейИтак, политическая антропология основывается на существовании внеморальных поведенческих типов, на перечне закономерностей при наличии контингентных взаимосвязей и в сфере приблизительных социальных данных. Она обращается к вопросу о депарадоксализации элементарных, антагонистических отношений, которые зафиксированы еще в понятии «недоброжелательной общительности» и которые в конечном счете связаны с проблемой учреждения государства даже для «народа, который состоял бы из дьяволов»[92]. Именно в силу того, что человек заключает в себе источник беспорядка, его рассматривают как носителя социального порядка. Его пребывание в обществе вовсе не является чем-то необходимым, оно случайно, и, заостряя тезис, можно было бы сказать: человек отнюдь не по природе своей является политическим живым существом, реализующим себя в государстве, напротив, природу государства здесь создает политическое знание, которое, в свою очередь, прибретает антропологическую направленность в вопросе о действительном человеке. Еще у Гоббса в основании заключения первичного договора лежит такого рода теоретическое усилие, ведь первый пакт мотивируется тем обстоятельством, что агрессивные стремления человека могут уравновешивать «страх смерти» и «желание вещей, необходимых для хорошей жизни», и что они могут быть направлены к соединению несоединимого[93]. Основанием для этого является механика страстей, функционирующая по модели галилеевской механики физических тел. Все аффекты в целом представляют собой движения appetite и aversion[94], aditio и fuga[95], общее стремление которых заключается в «самосохранении», и будучи однажды вызванным к жизни, оно не прекращает своего равномерного течения, причем «с той же природной необходимостью, с какой камень падает на землю». А эта природная необходимость, в свою очередь, получает свой импульс от двигателя всех человеческих движений, от сердца и кровообращения, свободный ход или задержка которого мотивируют чувство удовольствия и неудовольствия[96]. Тем самым бесконечность движения инертных тел, как его описывают механические законы сохранения, одновременно позволяет сформулировать закон безграничности человеческих стремлений[97]; и уже детально демонстрировалось, как, основываясь на этом новом, доступном антропологизации уровне описания, взаимная игра страстей и аффектов обращается к концепциям регуляции, которые уже не могут сводиться исключительно к подчинению, принуждению и репрессии или к голой инструментализации эгоистичных страстей. Поэтому знаменитый подзаголовок басни Мандевиля – «Private vices, publick benefits»[98] – можно рассматривать как формулу того, каким образом страсти взаимно нейтрализуют друг друга, как они рационализуются в тех или иных интересах или как в самом понятии «интереса», возникшем из государственных резонов, оформляется разновидность продуктивного и поддающегося исчислению эгоизма[99]. Аффекты, страсти и интересы взаимно уравновешивают друг друга, и эту функциональную трансформацию можно продемонстрировать на примере древней троицы грехов, superbia, invidia и avaritia[100], которая некогда воспламенила человеческое сердце и которая в том же сочетании вновь возникает у Мандевиля, Пуфендорфа и даже у Канта[101]: в осознании того факта, что действительно продуктивными являются не умеренные, а в первую очередь наиболее сильные склонности; что, например, скупость других кажется кому-либо пороком, прежде всего с его собственной порочной точки зрения; что она компенсирует противоположную страсть, расточительство, или же сама обезвреживается в каких-то других аффектах; что таким образом скупость – как и расточительство – в своих различных комбинациях и в силу тех или иных своих эффектов способствует кругообороту и распределению богатств; и что теперь хороший политик может исходить не из добродетелей и усредненных качеств, а только из случаев предельного проявления страстей, и он рассматривает эти страсти, подобно своего рода составным частям, в их смеси, в их воздействии друг на друга, – как они, «смешанные в правильной пропорции, составят отличный напиток, который нравится людям самого взыскательного вкуса»[102]. Стало быть, то, что само по себе может быть неприемлемым, скандальным или вредным для отдельных людей, лишь с точки зрения целого порождает цепь причин и следствий, в которых результаты действий того или иного типа уже не могут оцениваться согласно одному лишь критерию их ограниченных мотивов, целей и намерений вне ситуационного контекста[103]. При этом речь идет не столько о переоценке религиозных, моральных или правовых ограничений, сколько о некоем новом субъекте страстей и интересов, трансцендирующем границы правового субъекта; речь идет о разметке нового познавательного поля, о тесном переплетении взаимозависимостей, в котором образ действий целого более не измеряется действиями индивидов, о переплетении, в котором каждый человек в отдельности ведет себя лабильно и неопределенно, но поведение людей, взятых вместе, оказывается предсказуемым и поддается расчету, а потому может рассматриваться как проявление закономерностей по эту сторону правовых норм и моральных законов.
Адам Смит и invisible handИзвестно, что начиная с XVIII столетия такого рода изменение в умонастроениях не только стало общим местом в моральной философии, – например, в рассуждениях о «гармонии интересов»[104], – но и благодаря концепциям «невидимой руки» или «хитрости разума» получило систематическое одобрение в рамках телеологии, выводящей из взаимного противодействия объектов некую внешнюю для них самих цель[105]. На примере семантики invisible hand Смита удобнее всего проследить, из каких элементов складывается подобная взаимозависимость и подобная закономерность в рамках установленных законов, как она проникает в поле политической эпистемологии и со все большей остротой дает о себе знать в антропологической проблематике. Ведь прежде чем «невидимая рука» из «Богатства народов» (1776) предстанет как общее место для того движения, которое обращает собственный интерес и стремление к прибыли в сторону «всеобщего блага» и обнаруживает действенность экономической операции в бессознательной эффективности экономической рациональности вообще[106], это выражение появляется в совершенно ином контексте, который, однако, весьма примечателен. В своей написанной, по всей вероятности, приблизительно в 1758 году «Истории астрономии» Смит говорит о неспособности политеистических религий сводить к регулярностям нерегулярные природные события, в которых именно поэтому обнаруживает себя чудотворная сила древних богов. Если естественным образом «огонь горит, а вода обновляется, восстанавливая запасы», если «тяжелые тела стремятся лететь ввысь», то такие экстраординарные явления, как молния, гром или буря, требуют объяснения, в качестве которого у древних в конце концов может выступать только «невидимая рука» Юпитера[107]. Стало быть, невидимая рука здесь представляет собой факт космологии, и к тому же такой, который отмечает в цепи событий нечто нерегулярное и сверхъестественное, являя собой кажущуюся противоположность закономерному и регулярному действию «невидимой руки» в экономической теории Смита. Впрочем, констелляция такого рода позволяет вспомнить о рассуждениях, в которых столетием раньше взаимосвязь природных вещей сравнивалась со скрытым действием «незримой руки», с космологическим действием, подобно работе часового механизма, прячущимся за голой видимостью циферблата и стрелок[108]. К тому же и сам Смит еще раз использовал это выражение в центральном пассаже своей «Теории нравственных чувств» (1759), где «незримая рука» отсылает уже не к простому незнанию, – как в космологии древних, – а к осуществлению необходимого и полезного обмана. Это место также достаточно известно: пусть, пишет Смит, «гордый и бесчувственный землевладелец» оглядывает свои обширные владения и в своем воображении пожирает покрывающие их богатые жатвы, ни на одну минуту не помышляя при этом о «потребностях своих ближних»; но «вместимость его желудка не находится в соответствии с безмерной величиной его желаний» и выступает в качестве непреодолимой физической или физиологической границы. Выходит, он поневоле должен как-то распределять остаток урожая и именно в силу своего стремления ко все большей «роскоши», к «безделушкам и излишним вещам» удовлетворять потребности других. Итак, вопреки или как раз благодаря своему «эгоизму и алчности» богатые делятся своим богатством с бедными: «По-видимому, какая-то невидимая рука заставляет их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и умножению человеческого рода»[109].
Итак, ядро закона движения, связываемого с образом «невидимой руки», составляет многокомпонентный антропологический аргумент, идущий от физиологической данности к наблюдению страстей и далее к формированию закономерных, провиденциальных взаимозависимостей. И отнюдь не случайно в своем письме, адресованном Смиту сразу после выхода в свет «Теории», Юм ссылался на опубликованный незадолго до этого трактат Гельвеция «Об уме». Ведь в нем также поднимается вопрос об удачном взаимодействии страстей и интересов, в нем также речь идет о формулировании закона, в равной мере физического и политического, действующего как в природе, так и в государстве: «Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее подчинен закону интереса»[110]. На этом фоне можно распознать сложный конгломерат референций, порождаемый завоевавшей популярность концепцией «невидимой руки». Это касается не только – как в «Годах учения Вильгельма Мейстера» – идеи провиденциального руководства. Скорее между вопросом о космологическом или физическом законе, с одной стороны, и вопросом о социальном или экономическом функциональном принципе – с другой, располагается определенная антропологическая фигура, выполняющая роль связывающего их звена. Закон, которому подчинено движение небесных тел и природных вещей и в отношении которого заблуждались древние, и земное политическое провидение, по поводу которого неизбежно обманывают сами себя люди новейшей эпохи, теперь совпадают в человеческой природе, где связь физиологии, естественных страстей и эгоистических интересов создает закономерные взаимозависимости. Эта природа гарантирует, что из сингулярных акций возникает целостная сеть регулярностей, которая за спиной индивидов генерирует тяготение к некоей неосознаваемой ими цели на пользу всем[111]. Стало быть, по меньшей мере в этом отношении и Адам Смит все еще остается на почве, очерченной политическим знанием XVII столетия, где дисфункциональные поведенческие модусы систематизируются с оглядкой на законы движения в природе и обосновываются в обращении к человеческой природе. И теперь можно было бы констатировать следующее: естественно-правовое обоснование политического господства одновременно апеллирует к политической эпистемологии, освещающей некий новый тип политической рациональности по модели систематического опыта исследования природы. При этом структура государства, складывающаяся из репрезентации и представительства, удваивается за счет познавательного поля, фиксирующего данные эмпирического тела государства. В нем формулируются закономерности, составляющие как бы «базис» государства-лица и юридической конструкции государства, закономерности, затрагивающие человека, «каков он есть на самом деле», и в своей сердцевине порождающие антропологическую проблематику.
Конец аристотелевской политикиТакого рода положение может быть понято и как конец аристотелизма в его политическом аспекте. Ведь с появлением в конце XVII столетия конвенционалистских теорий и с утверждением политической эмпирии связано и фундаментальное изменение концепций «политического тела», его формы и его внутренней когерентности. У Аристотеля речь также шла о том, что в связности сообществ обнаруживаются структуры, аналогичные zoon[112] и soma[113] (совершенно в неметафорическом смысле), но при этом подразумевалось прежде всего единство различного, отношение частей и целого и необходимая связь между господствующим и подвластными. С одной стороны, для этого использовалась модель дома и семьи, в которой различные функции, виды деятельности и члены объединяются под управлением хозяина, отца семейства. С другой стороны, образцом служила царящая повсюду иерархия как во внутреннем строении человека, так и в отношениях между людьми, живыми существами и даже неодушевленными вещами. «И во всем, что составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы…»[114] И в новоевропейском государствоведении еще была заметна значимость модели «дома» и аналогии руководящих принципов, которые можно обнаружить в истории влияния аристотелевских представлений о политике и экономике и которые у юристов XVI–XVII веков соединяются в фигуре суверенитета. Так, например, теория государства Жана Бодена снимает аристотелевское различие между oikos и polis, тем самым уже предвосхищая «политическую экономию», в которой политическое правление усваивает принципы старой oikonomia. Но тем не менее государствоведение и искусство правления оставались закрепленными между двумя координатами, заданными, с одной стороны, институтом суверенной власти, а с другой – семьей как «источником и первоначалом государства», как «истинным отображением государства» и «образцом для правления в государстве»: «Как все тело обладает здоровьем, только если каждый отдельный телесный член исполняет свои обязанности, так и государство будет обладать здоровьем, если семьи руководятся надлежащим образом»[115].
Таким образом, благодаря проблеме суверенитета и модели семьи конституируется некий универсальный принцип правления, который еще не в состоянии отвергнуть аристотелевские или томистские установки: Бог повелевает ангелами, те – людьми, люди – животными, душа – телом, разум – желаниями, а монарх в той же мере есть образ Божий на земле, в какой порядок мира есть подобие «благословенного государства»[116]. Стало быть, тот, кто, как говорил Жан Боден, не желает цепляться за иллюзии и утопии, а вопрошает о постижимости «политического опыта», обнаруживает в этих аналогиях точку опоры для суверенной власти, вновь и вновь проявляющейся во всех отношениях и правящей на небесах и на земле, как в государстве, так и в семье. Знание о государстве вращается здесь не вокруг людей и благ, «местожительства» или «населения», а все еще вокруг объединительной силы того неделимого, неизменного, прочного и чистого суверенитета, который устанавливает меру всех отношений, подобно тому как золото устанавливает стоимость вещей, а единица – величину чисел[117]. Его слово предстает в сравнительной степени, superanus или superior, а его движение есть восхождение со ступеньки на ступеньку[118]; он находится по ту сторону законов и сам порождает их, он им предшествует и тем не менее говорит непосредственно через них. Всякая власть есть власть закона, а последняя, в свою очередь, концентрируется в руках монархов и отцов семейств. Действительность и история государств заключается – у Бодена – в проявлениях суверенного могущества, определяющего способ существования всего государственного тела в целом. И поэтому любое покушение на законы и ослабление их силы равнозначно полному преобразованию или концу государственного существа; кажется, что изменять государственные законы столь же рискованно, как «сотрясать фундамент или краеугольные камни, несущие тяжесть здания»[119].
Два тела государстваВпрочем, спустя столетие цепь этих аналогий прерывается, монарх уже не образ Божий, но репрезентант и представитель, а знание о строении государств более не остается – как было показано – кодифицированным исключительно в его законах. Если уже Гроций, например, критиковал учение Бодена о суверенитете за смешение правовой доктрины с государствоведением[120], то конвенционалистские теории, начиная с Гоббса и Пуфендорфа, предлагают рассматривать строение государства как объединение противоречивых компонентов, включающее в себя, наряду с формированием государства-лица, и возникновение знания, которое затрагивает элементарные модусы функционирования сообщества. И если у Бодена государство еще определяется как «правление на основании права»[121], то теперь юридические принципы государств и максимы правления разделяются, и в конечном счете в этой констелляции «все мнимые законы естественного права, вытекающие из искомых тезисов», могут даже показаться не более чем «химерами ученых»[122]. Тем самым единое, гомогенное и сфокусированное в луче суверенитета государственное тело разрушается или по крайней мере внутренне раздваивается. Еще Карл Шмитт указывал на имманентное удвоение государства у Гоббса, у которого юридическая договорная конструкция объясняет появление созданного репрезентацией суверенного лица. Но его внутренняя логика ведет не к персонализации, представительству и суммированию отдельных воль, а к функционированию некоей отлаженной во всех компонентах машины, которая в первую очередь интегрирует и перерабатывает физическое существование подвластных ей индивидов. Тем самым намечается исходящая из картезианского механицизма радикальная рационализация политического существа, которая трансформирует концепцию политического тела, обосновывает распространение понятия государственной машины и которая – как говорит Шмитт – в действительности не может ограничиваться и завершаться легитимационной игрой суверенно-репрезентативного лица[123].
В любом случае теперь представительства, волеизъявления и репрезентации суверенной власти оказывается недостаточно для описания способа существования политического тела, и за поворотом к абстрактной естественно-правовой дедукции вырисовывается предметность государства, находящаяся по эту сторону юридического. На первый план выходят новые сущности, и благодаря им историческая наука также становится государствоведческой дисциплиной, во всяком случае такой историей, которая наряду с формами правления и законами, конституциями и династиями вводит в описание государства и другие переменные: количество, свойства и положение населения, способы производства, множество движимых и недвижимых благ, климат и состояние нравов, болезни и катастрофы, денежное обращение и плодородие почвы…[124] Отныне все эти факторы мыслятся в сложных отношениях, затрагивают не статус, а связи между людьми и вещами и, следовательно, общественные коммуникации и провоцируют – по эту сторону и наряду с potestas[125] – формирование понятия социальной потенции, способности, раннее и, возможно, самое точное определение которой дал Лейбниц: «Regionis potentia consistit in terra, rebus et hominibus»[126]. По аналогии с формулой «двух тел короля», с помощью которой на примере средневековой теологии права Эрнст Канторович описывал специфическое удвоение политического тела, смертного и непреходящего, физического и неуязвимого носителя королевской власти, тот дуализм, который, исходя из христологических моделей, организует политическую иконографию, теорию монархического правления и определенные правовые механизмы вплоть до возникновения новоевропейских модусов репрезентации королевской персоны[127], начиная с XVII столетия можно было бы говорить о «двух телах государства»: о символическом или репрезентативном, проявляющемся как конфигурация общей воли и эту общую волю инкорпорирующем и детемпорализующем; и о физическом, охватывающем взаимосвязь населения, индивидов и благ и в игре страстей и интересов, в конечном счете организующем комплекс из изменчивых «сил» и «способностей»[128].
Государство-театр, физика государстваИтак, отныне два тела различного порядка определяют контуры поля дискуссий по поводу новых вопросов о правлении. Ведь, с одной стороны, даже теперь «конструкция искусственного человека» все еще соизмеряется «искусственной вечностью», которая переживет «материал» форм правления и естественные тела[129]; и даже теперь – например, у Пуфендорфа – corpus politicum рассматривается как «большое мистическое тело», в котором различные члены соединены и удерживаются вместе узами естественного права, тело, которое поэтому отсылает обратно к corpus mysticum средневековой экклесиологии, к выражению, которое с Тела Христова евхаристии переносится на церковную корпорацию, затем, начиная с Фомы Аквинского, как persona mystica связывается с persona repraesentata или facta юристов в области римского права и, наконец, с XIII столетия как corpus rei publicae mysticum может быть отнесено к прочному и коллективному государственному телу[130]. Аналогия между природным и политическим телом проводится здесь – на примере притчи Менения Агриппы и ее модификации у апостола Павла – для обоснования связи между головой и остальными членами: ведь «подобно тому, как люди соединены вместе духовно в духовное тело, глава которого Христос […], так же они морально и политически соединены в respublica, каковое есть тело, глава коего – государь»[131]. И даже еще у Гоббса говорится: «Но если церковь есть единая личность, то она совпадает с государством христиан, которое называется государством, потому что оно состоит из людей, объединенных в одном месте, в лице своего суверена, и называется церковью, потому что состоит из людей-христиан, объединенных в лице суверена-христианина»[132]. С другой стороны, теперь, начиная с конца XVII столетия, эти модели и аналогии оказываются недостаточными для описания элементарных способов функционирования государства и – как уже в физикализме Гоббса – переистолковываются в духе гомологии физических и политических закономерностей. В своем детальном анализе гравюры титульного листа «Левиафана» Райнхард Брандт уже установил, как это имманентное удвоение политического тела представлено к тому же с иконографической точностью. Ведь в эмблематической прозопопее государства как фигуры с распростертыми руками воспроизводится в первую очередь эпифания Спасителя, превращающая земную фигуру в духовное явление Распятого, corpus politicum – в Тело Христово и соединяющая в политическом теле представление об ecclesia как корпорации, а вместе с ним также и смертно-бессмертное государство со смертно-бессмертным corpus Christi средневековой политической теологии. Но в то же время это изображение слегка децентрировано и сдвинуто влево по вертикальной оси, так что центральная точка всей конструкции оказывается на месте сердца (см. рис. 1, с. 34). И этот сдвиг не только вызывает контроверзу между головой и сердцем, но и прежде всего указывает на механистический способ функционирования большого искусственного человека, движение которого коренится в движении сердца. «Ибо, наблюдая, что жизнь, – пишет Гоббс во введении к „Левиафану“, – есть лишь движение членов, начало которой находится в какой-нибудь основной внутренней части, разве не можем мы сказать, что все автоматы […] имеют искусственную жизнь? В самом деле, что такое сердце, как не пружина? Что такое нервы, как не такие же нити, а суставы – как не такие же колеса, сообщающие движение всему телу, как этого хотел мастер?»[133] Таким образом, наряду с головой суверена, которая подобно восходящему солнцу возносится над раскинувшимся перед ним ландшафтом, в качестве жизненного принципа, центрального солнца, движущего центра и местопребывания суверенитета утверждается и сердце, как об этом говорил Гарвей в своем «Анатомическом исследовании о движении сердца и крови у животных» (1628)[134]. Здесь фигура государства рассматривается как своего рода двойное светило, обозначающее различные способы действия целого, а асимметрия этого изображения фиксирует тем самым внутреннюю раздвоенность государственного тела, в котором сосуществуют символическое тело и машина, corpus mysticum и механическая функция. Впрочем, подобная дифференциация и дихотомия присутствует еще у Руссо: если «политическое тело» может рассматриваться как «организованное и живое тело», то «суверенная власть» представляет собой голову, тогда как сердце выполняет задачу распространения богатств «по всему телу, питая его жизнью», а стало быть, является местопребыванием политического витального принципа[135].

