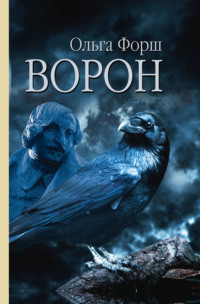
Ворон
– Синьоры, я уезжаю, берите Джулию…
Джулия и Бенедетта были сестры-близнецы такого необычайного внешнего сходства, что могли заменять одна другую.
– Синьор Алессандро, – сказала Иванову Бенедетта, – завтра будете рисовать? У меня для вас одного отложено все утро…
– Ты видишь, опять я в синих очках – разболелись глаза. Перенеси мое утро на ту неделю.
– Придется кончать вам по Джулии, я на месяц уеду из Рима, что она, что я – то же самое, я ей скажу…
– То же, да не то, – засмеялся Иордан, – как бурное море и одна рыба из этого моря…
– Федор Антоныч метил складно, а вышло что-то неладно. А кто твой кавальере, Бенедетта? – спросил Иванов. – Уж не он ли тебя похищает?
– Кавальере? Да это же брат мой… Доменико! – крикнула она своему спутнику. – Иди знакомься с синьором Алессандро.
К столу подошел человек с нежданными у итальянца мягкими чертами лица и особенной привлекательностью в улыбке.
– Как он чем-то вызывает облик Вьельгорского, – прошептал Гоголь Иванову и вдруг насупился, умолк, ушел весь в свой галстук.
Необыкновенный нос его, не смягчаемый улыбкой и общей жизнью лица, выдвинулся, поражая своей длиной.
– Скажите, сегодня не отменено «благословение полей» папою, – он, слышно, болен? – спросил Иордан итальянца.
Доменико, усевшись на краю стола, блеснул зубами и весело сказал:
– Что вы, разве отложат… да кардиналы для этого дела совлекут папу и со смертного одра, папская власть только помпой и держится! Без помпы она – пустое место.
– Но общеизвестно, что итальянцы благочестивы, – как из книжки сказал Иордан.
– Совсем недавно, в холерный год, мы видели, что стоит их благочестие! Разве не та же чернь, что шла босая, нанося себе в грудь удары, к церкви Maria Maggiore, не та ли самая, отчаявшись в чуде, надругалась над свежими трупами сестер святого Сердца Иисуса?
– Но ведь это вне себя, в исступленье безумства…
– А в трезвом виде скоро будет и почище… – Доменико понизил голос так, что его слышали только те, к кому велась его речь. – Поверьте, стоит лишь итальянцам понять, что Италия – добыча каждого, кто ее хочет взять, и это благодаря папам, – они и этих пап пошлют к черту! Идеал единого римского союза заложен в крови римлян.
– Значит, еще раз прав Макиавелли в своих «Discorsi»[9], – сказал Багрецов, – итальянцы обязаны церкви и духовенству тем, что у них нету веры.
– Однако все лучшие произведения искусства имеют своей базой веру, – вступил робко и смущаясь Александр Иванов.
Доменико подхватил:
– Брать красоту оболочки еще не значит брать сущность, к тому же наше искусство воскресло только в язычестве возрождения. О, Италия – страна крайностей, она легко переходит от грез Савонаролы, зовущего страшный суд, к грезам Кампанеллы, к мечте о рае здесь, на милой земле… Поверьте, фанатическое суеверие – лицевая сторона неверия, аскетизм и разгульные новеллы Касти – все одно! Но оттого, что так сейчас есть, не значит, что так и будет!
– Можно надеяться, что кровавые перемены произойдут не при нас? – спросил опасливо Иордан. – Ведь мне сдается, Григорий – предобродушный папа?
– Как сытый тигр, прикрывающий когти, – вспыхнул Доменико, – нынешний папа – злобный иезуит, с особой склонностью давит мысль и науку. Разве вы не слыхали, что он запретил ученым Папской области участвовать в конгрессе естествоиспытателей в Лукке? Прямое следствие его брефа…
– Если не ошибаюсь, вы говорите о брефе тридцать второго года, – спросил Багрецов, – где объявлено, что свобода совести – «сумасшедшая ложь», свобода мнений и слова – «чума»?
Доменико утвердительно кивнул. Гоголь и Иванов молчали.
– Если это не секрет, – сказал, еще понижая голос, Багрецов, – расскажите, что сейчас за волненья в Болонье?
– Волненья вызваны невероятным самовластьем таможенных чиновников. Народу ничего другого не оставалось, как, соединившись с вооруженными контрабандистами, на самовластье отвечать самоуправством, а уж Риму почудилась демагогия… В Болонью послана чрезвычайная военно-судная комиссия, тюрьмы переполнены, и если демагогов еще не было, – конечно, они народились.
– А как к волнению относится «Юная Италия»?
Опять подошедшая Бенедетта, вдруг вспыхнув, ответила за брата:
– Если guerra di banda[10] – путь, которым начнется освобождение народа, то соединение не только с бандитами, а с самим чертом нам благословенно! Однако, Доменико, нам пора идти, прощайте, синьоры!
– Ну, этим не сносить головы, – сказал неодобрительно Иордан, когда брат и сестра вышли.
– Типун тебе на язык, – махнул Иванов, – это семейство отменных людей, до собственной гибели преданных родине. Имя отца их с почетом произносит весь Рим, – он при предыдущем папе погиб в изгнании; Джулия и Бенедетта – девицы особенной складки, скромнейшие… Бенедетта к тому же образованна и открылась мне, что единственно ради удобства вести дела «Юной Италии» она укрывается под маской натурщицы, не вызывающей подозрений у папских шпионов.
Но сейчас у них, видимо, решено лезть на рожон… Приезд этого Доменико… Он, представь, удивительных дарований, сподвижник Мицкевича…
– Александр Андреич, довольно тебе зря выбалтывать, пойдем, – оборвал Гоголь, встал и, не глядя, следует ли за ним спутник, направился к выходу.
– А ты, без сомнения, скоро зайдешь? Премного тебе обязан… – Иванов крепко жал руку Багрецову. – Без тебя я теперь точно без глаз! Почитаем, поспорим, твои толкования…
Но тут, спохватившись, что Гоголь уж вышел, он вдруг бросил Багрецова и, торопясь, вперевалку засеменил к двери.
У дверей Гоголя неожиданно задержал Шехеразада:
– У меня анекдотец вам, Николай Васильич, специальный, на вашу тему-с. Охота бы рассказать. Когда прикажете? Может, нынче после лицезрения его святейшества? Очень повеселит вас. Не выбалтываю, вам одним берегу-с. Так сегодня?
Гоголь, нахмурясь, слушал Шехеразаду. И, нимало не улыбаясь, хотя тот был презабавен, по-бабьи одергивая шаль и топочась в своем пыльнике, мрачно сказал:
– Ну, приди поздно вечером!
Гоголь и Иванов ушли. Багрецов позвал:
– Павел Иваныч! Ше-хе-ра-за-да!
Он сидел поодаль один, пред ним стояло вино. Молча налил два стакана, молча дал.
– Люблю Глеб Иваныча за серьезность, – похвалил Пашка и, опрокинув вино, вздернул черные брови. Стал ждать, ничуть не балаганя, глядя с умом. – Что прикажете-с?
– Я слыхал, ты сегодня вечером напросился к Гоголю, ну так вот: деликатным манером узнай, точно ли он не помнит меня, или делает вид?
– Насчет того случая вспоминаете, в день именин? Что говорить, обремизил он вас, Глеб Иваныч… а фамилийку-то записал. От меня узнавал, от меня…
– Не егози, – оборвал Багрецов. – Вот теперь разузнай, помнит он, что я есть, дескать, тот самый…
– Вызнаю, Глеб Иваныч. Прибегу-с, доложу-с.
Глава III
«Флора» Тенерани
Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника!
Боже, что за жизнь наша! – вечный раздор мечты с существенностью!
ГогольЭтот день всегда был Гоголю труден: годовщина смерти Вьельгорского, безвременно погибшего друга. Итальянец Доменико его к тому же чем-то напомнил. Впрочем, какие напоминания были нужны тому, у кого вовсе не было прошлого, у кого ничто из пережитого не съедалось временем, ничто не тускнело, а все тут: стоит, мучает.
И вот сегодня с утра этот час, роковой не для одного покойного. С утра пред глазами, высоко в белых подушках, желтое, восковое лицо, с трепетными ноздрями, жадно ловящими воздух. Рядом в черной сутане аббат Жерве и она, стареющая, с остатками большой красоты, все еще великолепная княгиня Зенеида Волконская.
Простая, добрая Черткова то выступит, то ее нет; но эти трое неотступны. Они в остерии Лепре, они вот здесь, в базилике св. Каликста.
Иосиф Вьельгорский слабеющей рукой снимает с пальца перстень, чтобы отдать его милой Чертковой, одними глазами благодаря ее за долгие терпеливые ночи без сна, и вдруг, как хлыстом, этот шепот княгини:
– Mais c’est immoral![11]
И, повернувшись к аббату Жерве:
– Не правда ли, последние минуты не должны быть о земном?
И мягкий, извиняющий глаз аббата, которым он как бы покрывает неумную черствость княгини.
Напрасно, напрасно… Тончайшие нити очарования и надежд, которыми они так настойчиво сумели вот-вот оплести, уж рвались…
В последнюю минуту этот аббат, много проще и глупее княгини, оказался все-таки человечней.
– Необходимо, чтобы он умер католиком, обращайте его, обращайте, – суетилась она, желая завоевать изможденное тело друга хоть перед тяжким концом, на что аббат с укоризной сказал:
– В комнате умирающего должен быть полный покой!
Тогда она сама, шурша шелками, склоняется над Иосифом, напряженно что-то шепчет, пока тот в последний раз не глотнул жадно воздух и, дрогнув всем телом, не умер.
Чуть всплеснув маленькими белыми руками, она воскликнула радостно:
– Я видела, душа его вылетела католичкой.
И помыслить хоть миг, что эти люди облегчат в неслыханной муке, что их «единая кафолическая» даст ту опору творить, как давал Пушкин?! Вместо него, ушедшего освободителя, чье разрешающее слово снимало все путы, искать заместителей в этаких…
Гоголь в полутемном храме в глубокой задумчивости стоял под огромной мозаичной пасхальной свечой, а Иванов восхищенно оглядывал древние трибуны и разбирал устройство амвона в стиле ранней архитектуры. Он подбежал к Гоголю с записной книжкой и, не обращая внимания на его оцепенелое состояние, увлеченный одним своим делом, сказал:
– А ведь базилика Каликста в своих трех ярусах запечатлевает три разных периода из жизни Рима. Ярусом ниже девятый век-с, там, где мощи святого Климента, принесенные Кириллом и Мефодием с востока. А еще пониже знаете что?
И вдруг шепотом, хотя кроме безучастного сторожа в базилике не было никого:
– Еще пониже ярусом – храм языческого божества Митры! Каков диапазон-с? В Риме каждый камень дышит историей, каждая пядь земли напоена кровью народов: язычников, римлян, варваров… Под землей, в катакомбах, несчетны мученики христианства. И художник все это богатство чует каждым нервом своим… Где же художнику жить кроме Рима?! Николай Васильич, вы только прикиньте в уме: храм. Митры и церковь! Несовместимое благороднейше совместилось и сколь радует глаз!..
Гоголь, наконец, понял восхищенье Иванова, тускло глянул на него и сказал, кривя усмешкою рот:
– В искусстве несовместимое радует, ну а в человеке? Спасибо, если можно пропеть ему: «в огороде бузина, а в Киеве дядько»… то еще добрая скотинка, хотя чаще просто дурень. А если забрать по линии подобной разнопесицы поглубже да поумней – так от вони придется нос зажимать да швиденько втикать! Однако и тут не какое-нибудь важное амбре от пыли веков, ходимте на воздух.
По длинной и широкой аллее, которая лежала вдоль цветистых зеленых лужаек от Капитолия к Колизею, шли они тихо и молча.
По лугу паслись коровы из соседних домов. Стояли телеги с бочонками вина и выпряженными лошадьми. На обломках античной колонны сидели погонщики, ели сыр, запивая вином. Ослы их, развьюченные и ленивые, катались по земле, выбрыкивая ногами.
– Присядем и мы, – сказал Гоголь, – до папской церемонии добрых два часа.
Гоголь сел на один из обломков, а Иванов продолжал вслух свои мысли, пробужденные базиликой св. Каликста, семеня мелко вокруг, сопровождая свою речь неразмашистыми движениями рук.
– Простой народ зовет римский форум campo vaccino – коровье поле, а священный Капитолий, где венчали героев, – campo d’olio, масляное поле – вот и все-с. Буден день знай себе копошится на поверхности, и невдомек ему, что он унаваживает свои огороды историческим прахом веков…
Вдруг опять, как тогда у Лепре, Гоголь прервал его, не в силах сливаться с собеседником, под налетом собственных тяжких дум. Так в иной гущине леса, где крикнешь, по привычке ожидая в ответ эхо, вдруг чаща задушит тебя, выслав хлопанье крыл, чей-то посвист и гогот.
– Все эти дни… – начал Гоголь и костлявой рукой одернул за плащ Иванова. – Да не крутитесь же, как бес пред заутреней. Сидайте…
Иванов тотчас послушно сел.
– Все эти дни у меня, как болезнь, потребность забежать к Тенерани… он кончает свою «Флору». О, что за линии представляет она, особенно сзади. Красота линии потеряна у женщин везде, кроме Италии. Если взглянуть тут на иную в одном только одеянии целомудрия, так воскликнешь невольно: она с неба сошла! А возьмешь поучения Исаака Сирианина…
– Я слушаю, Николай Васильич…
Иванов, сидя несколько ниже, глянул сквозь синие очки настороженными глазами на друга, нахохленного и так странно носатого при огневистом закате.
– Исаак Сирианин о женщине в слове девятом говорит так: «Лучше тебе принять смертоносный яд, нежели есть вместе с женщиной, хоть будь это мать твоя и сестра».
Вот и примечайте: базилика, соединенная с храмом Митры, гармонии не нарушила, а человеку-христианину язычество в себе надлежит вырвать. Вырвать, хотя бы с самим сердцем.
– Да чего же вы так смотрите да молчите, – вспылил Гоголь, – прежде вы бывали тех же мыслей, хоть и прегрешали по слабости с Аннунциатами…
Иванов покраснел и страшно смутился, как смущаются одни лишь маленькие дети, пойманные у буфета с краденым пирожком.
– Мне о таких вещах сейчас не хотелось бы говорить, я еще не додумал свои новые мысли. Ведь я, Николай Васильич, теперь не тех мыслей… я не полагаю, что язычество надлежит зачеркнуть… там есть свой гений. Язычество надо в искусство включить, для полноты истории человека… а впрочем, это все мне новое-с.
– С которых пор? – спросил грубо Гоголь.
– Как сказать? Отчетливой мыслью встало впервые на выставке Овербека. Подумать только, четырнадцатилетний труд его, писанный с молитвою и постом, выражает один скудный бесчувственный аллегоризм… а живописи нет никакой-с. Пред вами не скрою. И, между прочим, Перуджин – слыхали по биографии? – утратил веру, поддался легкомысленной жизни и дал незабвеннейшие по чувству вещи…
– Что вы хотите этим сказать? Да вы что… отвечаете за такие слова?
– Отвечаю-с, – сказал твердо Иванов, – хотя не вполне умею сказать. И говорю это, – обратите внимание, Николай Васильич, – говорю вам одному. Важнейшему для меня соотечественнику. Ни батюшке моему, сколь с ним ни близок, никому, кроме вас, не мог бы сказать… Николай Васильич, я ныне твердо узнал: трагедия художника в покорстве своему гению, куда б он его ни завел!
Гоголь еще сгорбился, весь как-то сжался и повторил как бы для себя:
– Покорство своему гению, куда б он ни завел? А если на гибель?
Иванов вскочил, поправил нервно очки, заходил взад и вперед своим дробным шагом.
Они давно так не говорили. Каждый отошел в свою сторону. Оба, загнанные внутрь, нося для людей обманные личины, привычной скрытностью слившиеся в воображении всех с их личностью, на короткий миг дружеской встречи сбрасывали их, как ненужный хлам.
Гоголь, оставив свой вечный дозор за собой и другими, как раненный насмерть орел, долетевший до родного гнезда, уже не хорохорясь из последних сил, не стесняясь, страдал просто и больно. Он верил Иванову совершенно. А тот забыл слово-ерик, подхохатыванье, юродство, весь нелепый облик, защищавший нежнейшую в мире душу.
Он сказал:
– Если б знали, Николай Васильич, какие муки терплю! Что болезнь глаз? Я ей рад. Она – отсрочка такому решению, такому…
Слушайте, я разорван, как жалкий червь. И присужден сам взирать, как бьется в предсмертных муках отмирающая моя половина…
О боже! сказать себе: работа всей твоей жизни, съевшая молодость, личное счастье, твой гений… эта работа остаться может примером лишь того, как не надо, слышите? как не надо работать.
Но нет! Пусть лучше не выдержит мой тленный состав, нежели я предам искусство! Я не поступлюсь мне данным прозрением, я раскрою все, что увидел, я докажу миру, что́ может художник русский! Недаром самоотвержение вполне – наш исконный удел.
Николай Васильич, вы мне важнейший из всех людей, слушайте: мой старый храм разрушился, и мне его не удержать. Но я воздвигну новый, и уже для всего человечества, я прослежу и выведу путь к свободе духа от самого зарожденья культуры, от плена…
Афродитой, выходящей из пены морской, Гераклом в колыбели, удушающим змия, я бескощунственно окружу ясли младенца Христа, я объединю уже не нацию, а все человечество…
– Замолчите! – вскричал Гоголь. – Это не ваши речи, вас опутал бес… бес гордости. В ущерб спасению души нельзя служить искусству. Еще повторяю: язычество надлежит вырвать, хотя бы вместе с сердцем! Да, вырвать и растоптать.
И, не замечая несоответствия в дальнейшей своей речи, продолжал уже совсем вне себя:
– Что мне до того, что Галаган меня славит новым Гомером! Речь женщины, умудренной религией, мне зазвучала глубже… а она что мне сказала? «Ваше фантастическое и смешное еще не есть высокое… Христос никогда не смеялся». Этакая мысль! Да, ее сплеча не срубить одним махом…
Гоголь обеими руками уперся в колени, уронил на ладонь голову и еще прошептал:
– Христос не смеялся.
Долго молчали.
Иванов сел рядом на камень.
– Николай Васильич, и мне ведь близко подобное жестокое двоение, – сказал он тихо и робко. – Но ведь эти вопросы вовсе не умом решаются. Не смею, конечно, учить вас, но скажу про себя, Николай Васильич, дражайший, я держусь любовью за каждую травку, за малый камешек в Субиако, где я в работе забываю себя…
– Совершенствуясь в искусстве, много ль двинулись как человек? – Голос Гоголя был строго брезглив. – Картины не вечны. Сколь ни гениален да Винчи, от «Тайной вечери» – одни пятна сырости на стене… Впрочем, все, все, чем внутренне строится человек, вы узнаете скоро из моей новой книги.
Глаза Гоголя заблистали, румянец выступил на широких скулах.
– Этой книге настало время явиться в свет, – сказал он торжественно. – Одна высокая душа мне недавно сказала: «Вас осязательно посещает благодать: прежде одна ирония прорывалась из вас, вы будто кололи всех своим носом, палили глазами, а ныне сколь вы добры, сколь дышите христианством!»
Отныне мой компас в трудном деле писателя – не отзывы литераторов, а мнение высоко настроенных душ. И скоро я смогу успокоить их, укорявших меня, что чтение «Мертвых душ» – сплошное утопанье в грязи. Грязным двором, ведущим к изящному строению, останется точно лишь первый том… Том же второй…
– Это страшно, что вы говорите, – воскликнул Иванов, – как вам отказаться от первого тома, гордости всех русских; Николай Васильич, не верьте оценке светских ваших дам, – им неведомо, им не свято само слово русское. Улещивая вас как человека, они разве ценят художника? Их проклятый круг сгубил нам Пушкина, сгубит и вас… Вспомните хотя бы чтение «Ревизора» на вилле Волконской.
Гоголь, как от боли, дернулся, хотел что-то сказать, Иванов не дал.
– Простите, я только наедине с вами, и то впервые, решаюсь сказать искренне, раз вышел такой разговор… даже батюшке в Петербург, клянусь вам, я написал, что все вышло превосходно, но вам скажу: превосходного было одно лишь намерение ваше, вопреки нездоровью, великодушно помочь несчастному художнику…
– Да ведь Шаповалову нехудо и собрали, по скуди шел билет. Для этого случая и зал был освещен превосходно, и чай с лакеями, и мороженое, все, кроме самомалейшего аплодисмента!
Гоголь усмехнулся. Улыбка медленно проползла от изогнутых полноватых губ к прищуренным острым глазам, ядовитой волной вывела только что бывшее на этом лице изображение смиренника.
– Эти чопорные безмозглые люди разве сумели вас понять? Вас, отечественного, лучшего писателя нашего! Сочли они за счастье вас слушать? Вся эта светская конюшня, не удостоив вас и единого хлопка, после первого же акта вытопала вон из залы… и к концу обступили с восторгом и благодарностью вас мы, одни горемычные русские питторы…
Николай Васильич, бесценный, важнейший из людей… – Голос Иванова пресекся от волнения. Он схватил худую руку Гоголя своими теплыми толстоватыми пальцами. – Не верьте вашим святым женщинам, ни всему аристократству, которое вы хотите считать своим. Поймите ж, им не ценно слово русское. Не стану вам повторять: они не сберегут в вас художника, как светские сестры их не сберегли Пушкина…
Наконец, при вторичном упоминании Пушкина, Гоголь как бы дрогнул и пришел в себя. Он, видимо, чем-то так был расстроен сегодня, что малейшее прикосновение к чувствительному месту души вызывало в нем боль нестерпимую. Глаза его блеснули острей, болезненный румянец разошелся по всей щеке. К тому же, что бы ни говорил его язык, когда вставал перед ним тот вечер на вилле Волконской, его охватывала свойственная ему тяжкая злоба, не находящая обыкновенного человеческого выражения. Она разрешалась только наедине, одному ему ведомыми припадками…
Страшным усилием воли он отмел подступившее чувство и обрушился вдруг на Иванова совсем в неожиданной для того форме:
– Да что вам дался «Ревизор»? Плевать я на него хочу! Стыдно вам и предполагать во мне столько мелкой, честолюбивой дряни. Да если б появилась такая моль, которая съела бы экземпляры «Ревизора», я бы благодарил судьбу. Идемте, не то опоздаем к церемонии.
Иванов, привыкший к мудреному характеру друга, притаился и умолк, чтобы больше его не рассердить. Впрочем, Гоголь уже принял обычный свой сдержанно-замкнутый вид, только глаза его чудно блестели, и румянец не сходил со щек.
Увидев на площади Иоанна Латеранского огромную нарядную толпу, Гоголь повеселел. Небо было такой прозрачной голубизны, что далекое Альбано приблизилось. Горы невыразимой нежностью очертаний ласкали глаз, выглядывая то из-за огненной мантии кардинала, то из-за белых платков, особенным манером прилаженных на прическах красавиц, болтающих с мужчинами в широкополых соломенных шляпах. Разноцветные перья военных трепетали то тут, то там, как крылья редкостных птиц.
– А гляньте-ка, монахи да аббаты как маком посыпали площадь, – сказал Гоголь, – доминиканцы ни дать ни взять – наши богаделки в кофейных платьях. А этих вот в треуголках и черных натянутых чулочках я особенно люблю после одного случая… Как увижу, развеселюсь.
– Какого же случая? – Иванов был рад, что Гоголь разошелся.
– А знаете, я своей любовью к Италии так умею другого взвинтить, особенно, когда я вдали от нее. Просто потребность какая-то расписать и серебряный воздух, и голубые, как матовая бирюза, вот эти Альбанские горы, и Фраскати, и Тиволи… Вы представляете: у женщин глаза уж горят, а сердце слыхать, как бьется. А тут-то и поддать пару: а ночи-то, скажу, звезды блещут сильней, чем у нас, по виду больше. О, когда все вам изменит, идите к ней, к Италии!
И так я одну раззадорил, что и сам как кур влопался. Представьте, взяла с меня слово, что если я первый попаду в Рим, то от нее поцелую колонну да поклонюсь непременно первому встречному аббату в туго натянутых чулочках. И до того я как-то расшалился, что проделал и то и другое, только колонна в ответ поцелую не дрогнула, а аббат говорит: «Извините, синьор, не могу вспомнить, где виделись».
– Он превежлив, аббат-то, – заливался Иванов.
– Я взял да ему и рассказал про данное поручение, он улыбнулся и премило сказал: «Знакомство, начатое так необычно, надлежит непременно продолжать». Вообразите, оказался недурным поэтом. А у нас, пожалуй, за невинную шалость дали в морду…
Вдруг говор смолк, площадь опустилась на колени. На балконе Иоанна Латеранского появился папа с двумя зажженными свечами в руках, окруженный кардиналами. Папа благословлял поля Рима.
Заходящее солнце нестерпимо усилило пурпур мантий кардиналов, блеск золоченых крестов, фонарей, белизну трепетных, как чайки, уборов кармелиток. Тяжелая красота римских женщин, загорелые лица мужчин, полные силы и страсти, невольно заставили, художника прошептать:
– Что за чудный народ!
И над этим морем неистовых красок, яростной силы жизни, в таком же пурпуре последних лучей, вознесенный над всеми, грузный и вялый старик, венчанный тиарой.
Папа невнимательно и бесстрастно, как старая стряпуха исполняет надоевшую, хотя ставшую второй натурой привычную работу в кухне, подымал и опускал руки. Лицо его не выражало ровно ничего. Мертвыми глазами обводил он площадь и, совершив свою повинность, ушел с балкона.
– Александр Андреич! – окликнул Иванова протиснувшийся Багрецов. Он легко вскарабкался на каменную площадку строящегося дома, где стояли Гоголь и Иванов.
– Чудеснейший отсюда вид – не правда ли? – сказал Иванов, без нужды протягивая обе руки для опоры.
Багрецов был, видимо, озабочен.
– В толпе очень волнуются, – сказал он. – Болонские дела, о которых в остерии говорил нам Доменико, у всех на языке. У многих родственники в тюрьмах, надеялись сегодня на прекращение дела, на амнистию… но папа, напротив того, высказался за строжайшие новые аресты. Этот старик – мастер бесстрастно и бездушно засаживать в тюрьмы. Он передал все дело своей тайной полиции. А эти – уж раздуют…