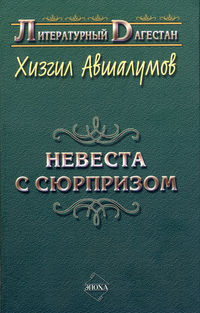
Невеста с сюрпризом (сборник)
Коротко о вчерашнем случае, рассказом о котором хочу закончить своё письмо к Вам. Вчера он, мой сосед, чуть не натолкнул меня на смертоубийство и не свёл с ума. Да, да! А было это так. Поздно вечером возвращался я со свадьбы домой, а жены моей опять не было дома. Она осталась ночевать у своего дальнего родственника. Когда я вышел во двор, смотрю, у меня в саду под черешневым деревом стоит незнакомый человек с куцей бородкой и в соломенной шляпе. Он тянет на себя ветку с ягодами, а сам нахально смеётся мне в лицо, оскалив рот.
– Вон из моего сада, хам! – кричу я на него, – не для того, говорю, вырастил я в поте лица эти черешни, чтобы ты даром лопал их, да ещё усмехался надо мной!
А он – ни с места: ни стыда, ни страху. Я вспыхнул, как спичка, тем более, выпивши был, вынес в горячке ружьё из дому и пальнул в вора. Незнакомец упал без звука, как подкошенный. Как только я опомнился, понял, что натворил, мне стало страшно, весь покрылся холодным потом. Бросив ружье, я кинулся бежать к калитке, но от растерянности наткнулся на каменный забор и расшиб в кровь себе лоб. Мне показалось, что это он, вернее призрак убитого, догнал меня и изо всех сил хватил камнем по голове. И я поскорее спрятался в доме. Сколько страхов натерпелся я вчера ночью – не дай аллах даже врагу вашему.
Ещё хорошо, что на мой выстрел никто не прибежал потому, что вчера ночью стрелял из ружья не я один. В нашем селении издавна существует обычай: когда жених впервые переступает порог комнаты невесты, где им с сегодняшнего вечера предстоит жить как супругам, наши односельчане выходят за околицу села, стреляют в воздух, приветствуя этим зарождение новой семьи, как будто без их «приветствия» дело не обойдется. Поэтому на мой выстрел никто и не обратил внимания.
Утром, едва дождавшись рассвета, я, подавленный, еле живой, притащился в сад. И как только подошёл к тому самому месту, где вчера ночью упал незнакомец, я остолбенел от изумления – под черешневым деревом на мокрой от утренней росы взрыхлённой земле лежал не человек, а… обыкновенное чучело, но с козлиной головой. Губы сверху и снизу надрезаны. От этого казалось, что коза, вернее голова её, смеётся во весь рот.
Меня охватила такая бурная радость, что не могу выразить Вам словами, будто заново на свет родился. Я плакал и смеялся. Но вскоре моя радость сменилась острым гневом на моего недоброго соседа, Сары-Самада. Я вспомнил, как он совсем недавно упрекал меня при всех, говоря: «Ты, Гамбар, пережиток прошлого, жадный собственник, можешь из-за пары ягод человека убить…»
Я сразу сообразил, что эта дьявольская шутка – дело его рук, и клетчатый пиджак на чучеле я не раз видел на нём.
Поспешно завернув шляпу и козлиную голову в пиджак, снятый с чучела, я сегодня утром отправился в райцентр к прокурору жаловаться на Сары-Самада. А как же иначе. Но обидно то, что прокурор совершенно безразлично отнёсся к моей жалобе, да ещё посмотрел на меня так неласково, так недружелюбно, будто во всём виноват не он, мой сосед, а я. Получилось, как в старинной пословице: «Иди заяви хакиму[10], а хаким сказал – убирайся к черту!»
Будьте справедливы, посудите сами: разве после всех тех пакостей, которые причинил мне, безвинному человеку, мой сосед, он не заслуживает, чтобы Вы написали о нём острый, как кубачинский булат, фильетун, да чтобы фил[11] придавил его вместе с прокурором!..
Как я воскрес
Я умер. Но умер не наяву, а во сне и поэтому видел, чувствовал и слышал всё, что происходило со мной и вокруг меня.
Едва неумолимый ангел смерти – Азраил вместе с последним вздохом отнял мою душу, меня раздели догола и сняли с кровати (покойнику, мол, незачем без дела валяться в постели). Тело мое еще не остыло, когда его положили на голый пол в одном из углов комнаты (теперь все равно никакая хворь к нему не пристанет). Угол завесили белой простыней (неприлично ведь взрослому мужчине, если он даже мертв, растянуться нагишом на виду у всех). У моего изголовья поставили священный огонь – зажженную лампу.
Потом меня тщательно омыли горячей водой (видимо, в рай не пускают без предварительной санобработки), завернули в белоснежный саван.
После всех этих и других процедур, предусмотренных обрядом (знаете, иногда живому легче попасть на приём к начальнику-бюрократу, чем покойнику в свою яму), меня положили на погребальные носилки, накрыли черной материей и быстро понесли на кладбище.
Впереди процессии шли мои сестры, тетки, двоюродные и троюродные сестры моей бабушки (жена осталась с детьми дома, она от горя не в состоянии была двигаться).
Все мои родственницы рвали на себе волосы, царапали себе лица, прыгали и громко причитали. Выше всех прыгала, несмотря на свои шестьдесят лет, и громче всех причитала моя мачеха. Пусть, мол, люди знают, что она, мачеха, тяжелее всех переживает кончину своего пасынка.
И, глядя на мачеху, я невольно вспомнил свое безрадостное детство: как она из-за лишнего куска хлеба била меня смертным боем и как за малейшую провинность щипала и кусала меня.
«Эх, мачеха, мачеха! – думал я с горечью. – Если бы ты с таким же усердием работала бы в колхозе, с каким колотила меня, валлах, твоё имя давно занесли бы на Доску почёта».
Но я смотрел на все происходящее беспристрастно, равнодушно, как и полагается мертвому. Однако, когда со своих носилок, покачивающихся на плечах моих согласно шагающих друзей, как на волнах, я бросил прощальный взгляд на родной город, освещенный лучами предзакатного солнца, меня охватили невыразимая тоска и волнение. Он, этот город, был мне дорог и мил. Здесь я вырос, познал волнения первой любви. Город из года в год рос и хорошел на моих глазах. Многие здания в нем были выстроены при моем участии, и я смотрел на них, как смотрит старый садовник на деревья, посаженные и выращенные его заботливыми руками (при жизни я был бригадиром одной из строительных бригад).
Горькая, как полынь, жгучая, как молния, мысль о том, что я на веки вечные расстаюсь со своим городом, детьми, женой, что я умираю, не дожив до старости, возмутила меня, все во мне восстало.
Мне пришлось призвать на помощь всю свою волю, чтобы подавить в себе эти земные переходящие чувства и покориться своей участи, памятуя, что покойник должен вести себя, как жених перед венцом, – тише воды, ниже травы, иначе потеряет уважение со стороны живых.
Всё шло чинно и строго, как полагается по обряду.
Похоронная процессия вступила на кладбище. Носилки со мной осторожно сняли с плеч и бережно положили у свежевырытой могилы, откуда несло сыростью и тленом. Кругом возвышались надгробные камни и безымянные холмики, застывшие в скорбном молчании. Они наводили меня на грустные мысли. Невольно приходили на память печальные строки величайшего из поэтов Омара Хайяма:
Друг мой, в могилу скоро ляжешь ты,Где света нет, любви и красоты,Слушай, эту тайну никому не открывай, —Не расцветают вновь увядшие цветы…Я ждал: вот-вот снимут меня с носилок, положат в яму, и мир с голубым небом, горячим солнцем и мерцающими звездами навсегда захлопнется передо мной. Но в это время чей-то голос объявил об открытии траурного митинга по поводу моих похорон. От имени коллектива и профсоюзной организации СМУ дали слово пожилому мастеру Дада Бадаеву, бригадиру второй строительной бригады, с которой соревновалась моя бригада.
Грусть моя несколько смягчилась, когда я услышал его знакомый и сердечный голос. Я не сомневался, что этот седой человек с добрыми глазами скажет обо мне людям несколько задушевных слов…
Но какой же удар я испытал, когда увидел, что он вытащил из кармана несколько листков, напечатанных на машинке, и, запинаясь, начал читать, впиваясь близорукими глазами в текст:
«За последние годы у нас повсеместно широким фронтом развернулось жилищно-бытовое строительство… Наш боевой девиз – строить быстро, дешево и высококачественно…»
Дальше оратор сообщил похоронной процессии о производственных показателях нашей строительной организации, доложил, где и что она строила за последние годы, упомянул несколько передовиков производства, в том числе и меня. Обо мне он сказал, что я «ловко орудуя мастерком и свободной левой рукой, в одну смену перекрывал по две с лишним нормы».
Старик и сам, видно, чувствовал, что говорит не то. Он с досадой дергал головой, хмурился, кряхтел, но продолжал читать речь, написанную, видимо, для него каким-то административным сухарем. В конце своего выступления он бросил все-таки в мою сторону поспешный взгляд, но, боясь надолго оторваться от бумаги, продолжал чтение:
– Дорогой Хизгил! Пусть трехэтажный двадцатиквартирный дом, который мы строим со всеми коммунальными удобствами на улице Веселые ребята, будет памятником тебе за твой доблестный труд в нашем коллективе. Спи спокойно, дорогой… Прощай и до свидания!..
Я незаметно обвел взглядом лица столпившихся на кладбище людей. Нарушив приличествующую моменту скорбь, они – о, ужас! – весело улыбались. Один коротконогий, большеголовый, пучеглазый толстяк без всякого стеснения хихикал так, будто его щекотали.
От досады и возмущения я чуть не повернулся на носилках. «Ну зачем доброму Дада Бадаеву потребовалось выступать с этим отчётным докладом на моих похоронах? – сокрушался я. – Неужели в дни большой радости или большого горя у каждого из нас не найдется несколько сердечных слов?.. А какое же горе больше, чем смерть друга, товарища?.. Ведь в человеческом языке столько славных, верных слов. Неужели я только и занимался в своей жизни тем, что «ловко орудовал мастерком и сжимал кирпич левой рукой?» Разве не был я любящим мужем, нежным отцом, верным другом, разве не было у меня радостей и горестей, мечтаний и стремлений?! Почему обо всем этом не сказали ни слова?»
Толстяк, придерживая обеими руками свой тугой живот, точно боясь уронить его, уже не хихикал, а хохотал.
Вдруг и мне самому стало смешно. Сперва тихо, а потом все громче и громче начал я хохотать. Всё мое тело содрогалось от смеха.
Как я ни старался сдержать себя, ничего не выходило. (Что это за порядок, если покойники начнут смеяться над живыми, – до сих пор всегда было наоборот).
От моего громкого, раскатистого смеха черное покрывало над носилками колыхалось всё сильнее, как от крепкого ветра. К удивлению всех, я вдруг ожил, встал и сбросил с себя мрачное покрывало.
Я слышал, что смех излечивает от многих болезней, а на этот раз смех излечил меня от самой страшной штуки – смерти.
Проснувшись в то утро, я сказал жене: – Знаешь, если я умру раньше тебя, пусть над моей могилой не устраивают митинга.
Невеста с сюрпризом
Однажды звездной майской ночью, богатой событиями 1921 года, молодой партизан Шариф Шарипов возвращался в родной аул.
Больше года Шариф не был дома. Узкая каменистая дорога то круто рвалась вверх, то резко, будто в бездну, падала вниз. Старая берданка билась за плечом Шарифа, он шагал и думал о том, как встретят его мать, односельчане.
Шариф возвращался в аул, как и уходил из него год тому назад, без единого гроша в кармане, в изношенном рваном чохо и истоптанных чарыках. Но на душе у молодого человека сейчас было весело и радостно.
Время от времени Шариф заботливо поправлял видавшую виды облезшую папаху, осторожно, почти нежно касался пальцем гладкой красной ленты, на которой была прикреплена маленькая пятиконечная звезда. Предложи ему сейчас самую дорогую папаху вместо его ободранного порзе[12], он ни за что бы не согласился. Не променял бы он ее даже на знакомую ему серебристо-серую каракулевую папаху с блестящим зеленым бархатным верхом, гордо красовавшуюся на голове его односельчанина богача Асланбека.
Пусть у него, у Шарифа, папаха из простой овчины, старая, облезшая, отдает горьковато-острыми запахами прокисшего сыра, чеснока и пота, но зато она украшена красной лентой – почетным знаком его принадлежности к победившей революции. А горец, как известно, носит папаху прежде всего не для того, чтобы она предохраняла голову от жары или стужи, а как символ мужской чести и достоинства.
Но он, Шариф, не забыл, как однажды взбесившийся богач Асланбек топтал ногами вот эту самую папаху…
Это было три года тому назад. Восемнадцатилетний батрак Шариф, усталый, загорелый, в темной от пота грубой бязевой рубашке, возвращался на закате домой. Весь день, не разгибая спины, под палящим августовским солнцем убирал он хлеб на полях Асланбека. Шариф знал, что дома у старухи-матери, у которой он был единственным кормильцем, не было в тот день и горсточки муки, чтобы к вечеру она могла испечь горячую лепешку, которую мать обычно подавала ему на ужин вместе с прохладным айроном из козьего молока. Поэтому, возвращаясь с поля, он захватил с собой пшеничный сноп, чтобы вручную вымолотить его дома.
Наверно, про таких, как он, Шариф, говорилось в пословице: «День бедняка начинается горем и кончается стоном». Когда он по кривой и тесной улочке родного аула, зажатой с обеих сторон серыми, плоскокрышими саклями, пробирался домой, неожиданно на повороте встретился ему хозяин. Тот, как почти всегда в последнее время, был пьян и шел, слегка пошатываясь, старательно глядя себе под ноги, чтобы не споткнуться. Богач поминутно морщил лицо, еще не старое, но уже немного рыхлое, словно во рту чувствовал какую-то горечь, отчего его черные, лихо закрученные усы беспрестанно вздрагивали.
Шариф вежливо поздоровался с Асланбеком и встал спиной к стенке сакли, почтительно уступая ему дорогу. Услышав приветствие юноши, Асланбек сразу остановился, обернулся к нему. Вялым, небрежным движением он отодвинул назад серебристо-каракулевую папаху с зеленым бархатным верхом, словно она сейчас мешала ему хорошо разглядеть парня. Большие, немного выпуклые серые глаза Асланбека уставились на батрака тупо и рассеянно. Но, заметив сноп с тугими желтыми колосьями в руке своего батрака, Асланбек побагровел.
– Ты это что, с-собачий с-сын! – положив руки на бедра, с нескрываемой ненавистью и насмешкой процедил он сквозь зубы. – Мое добро вздумал растаскивать, как будто меня уже и в живых нет, или я теперь, – он с силой ударил себя кулаком по груди, – не хозяин своему добру, если такие, как ты, безбожники и бунтовщики свергли царя с престола, а?!.
Ярость душила богача и мешала говорить. В мгновение ока Асланбек сорвал с головы растерявшегося юноши папаху, с силой ударил ее о землю и принялся топтать ногами.
– Ты не мужчина, достойный носить папаху, а вор! – злобно выкрикивал он при этом в каком-то неистовом самозабвении. – Ты не мужчина!..
Воспоминание об этом всегда уязвляло мужскую гордость Шарифа, вызывая в душе бурное, но бессильное негодование. Но сейчас он вместе с острой ненавистью к своему обидчику почувствовал и мстительное злорадство. Вот он теперь покажет этому усатому шайтану, кто из них настоящий мужчина!
Мать писала ему, что богач со своими верными нукерами уходил в банду имама Гоцинского, теперь разбитую Красной Армией и партизанами в пух и прах. Говорят, после этого заносчивый и самоуверенный Асланбек и носа не показывает в ауле, страшится джамаата, прячется где-то. Только иногда тайком, среди ночи, как вор, подкрадывается он к аулу, посещает свой дом и, не дожидаясь утра, захватив с собой провизию, исчезает опять куда-то, как дух перед рассветом.
Рассуждая так сам с собой, Шариф не заметил, как подошел к аулу. Теперь он уже шагал мимо окрестных садов, стоявших в пышном цветении, источающих густой, пьянящий аромат. Казалось, белые пушистые облака спустились на ночь с вершины высоких гор и окутали деревья.
Он шел бодро, с веселой улыбкой оглядываясь по сторонам.
Выйдя на край аула, Шариф остановился и в волнении окинул его нетерпеливым и радостным взглядом. В саклях было темно, аул погружен в сонное безмолвие. Но молодому партизану показалось несколько странным то, что его родной аул выглядит точно таким же, каким он покинул его год назад, словно в мире не произошло за это время никаких особенных перемен. Даже каменный двухэтажный дом Асланбека, его кровного обидчика и имамовца, по-прежнему кичливо возвышался над неприметными саклями бедняков, как бы подчеркивая этим свое могущество и превосходство над ними.
Шариф с ненавистью посмотрел на этот дом, будто на самого его хозяина. Поправив на голове папаху и старенькое ружье за плечом, он решительно направился прямо к дому Асланбека: а вдруг он дома?..
Подойдя к узкой двери под высоким балконом из резного дерева, Шариф тихо, потом все громче принялся стучать. Прошло несколько минут, прежде чем за дверью раздался настороженный женский голос:
– Кто?!..
Шариф узнал по голосу мать Асланбека – Зейнаб.
Он живо представил себе седую и прямую, как шест, старуху, не по годам подвижную, с надменно-насмешливым лицом и хитрыми, выпуклыми, как у сына, серыми глазами.
– Это я! – строго произнес Шариф и, гордо распрямив плечи, поспешно добавил: – Партизан Шариф. Открой!..
– Дома никого нет, – не сразу произнесла старуха.
Юноша знал, что это означает: дома нет никого из мужчин, а женщины в счет не идут. Услышав это, он почувствовал некоторое разочарование, но решив, что его могут обмануть, он, недолго думая, снял с плеча берданку и начал прикладом бить в дверь, несмотря на неистовый лай, поднятый во дворе собаками.
Прошло еще несколько минут, и за дверью раздался лязг засова. Войдя в большую просторную комнату, Шариф окинул ее быстрым подозрительным взглядом. Но дома действительно никого из мужчин не оказалось, были одни женщины: мать Асланбека, две его жены и несколько ближайших родственниц. А в самом дальнем углу, на тяжелом сундуке, покрытом таким же ярким разноцветным ковром, какими были украшены стены и полы комнаты, сидел кто-то вроде невесты. И как положено ей, невесте, она сидела с закрытым лицом, тихо, в неподвижной позе, как изваяние. Большой белый шелковый платок величиной с полпростыни закрывал всю ее фигуру с головы до самых носков.
Одна из девушек стояла по правую руку невесты, а другая – по левую.
Шариф почувствовал себя неловко оттого, что не поверил словам старухи и среди ночи ворвался в чужой дом, где одни женщины. И чтобы скрыть свое смущение, он, нарочито нахмурив брови, раза два молча и строго прошел по комнате, потом, остановившись, снял с головы папаху, повертел в руке, погладил со всех сторон и опять водрузил на место. Женщины, сбившись в кучу, с угрюмым молчанием и плохо скрытым страхом наблюдали за каждым шагом и каждым движением непрошеного гостя.
– Невеста?.. – показывая глазами в угол, сдержанно улыбаясь, тихо, почти миролюбиво спросил он Зейнаб, нарушая первым тягостную тишину.
Та, в отличие от других женщин, держалась непринужденно, стараясь придать своему лицу ласковое, приветливое выражение.
– Да, невеста, – кивнула старуха головой, потом, подойдя ближе к нему, доверительно, с теплыми материнскими нотками в голосе добавила: – Свою служанку выдала замуж за парня из соседнего аула. Скоро должны приехать за невестой.
Услышав это, Шариф недовольно, почти враждебно покосился на старуху: ему стало обидно за невесту, жаль ее. Где это видано, чтобы провожали невесту из дому вот так, без веселья, без радости, без зурны? Небось, если она была бы не служанкой, а родной дочерью этой старой ведьмы Зейнаб, непременно позаботились бы о том, чтобы все было так, как положено на свадьбе. Да еще вдобавок у всех женщин такие лица, как будто дома не невеста, а покойник.
– Разве так провожают невесту из дому? – строго спросил он хозяйку. – Где музыканты?..
Старая Зейнаб, горестно сложив руки на груди, сделала скорбное, плачущее лицо.
– Да чтобы ослепнуть мне, сынок, разве нам сейчас до музыки и веселья!? Плакать нам в пору, а не веселиться, – начала она оправдываться перед Шарифом. – От сына моего никаких вестей, не знаю, жив ли он, не дай аллах, погиб ли…
Шариф резко отвернулся, не желая слушать хныканье старухи о сыне. Он подошел к курносой девушке, стоявшей по правую руку невесты прямо, неподвижно, с непроницаемым и строгим лицом, точно часовой на охране особо важного объекта. Шариф приказал ей сейчас же сбегать за музыкантом. И она из страха и почтительности перед суровым партизаном, не глядя ни на кого, пулей выскочила из дому.
Вскоре она вернулась с музыкантом, худым, немного сутулым пожилым человеком с седыми обвислыми усами и веселыми улыбающимися карими глазами. Без него в ауле не проходило ни одного торжества, ни одной свадьбы. В любое время дня и ночи Сафар (так звали музыканта), захватив свой волшебный инструмент, тотчас же с готовностью являлся на зов.
Старый зурнач и молодой партизан на виду у женщин, не скрывая своей радости от встречи, сердечно обняли друг друга и расцеловались. Затем Сафар скромно отошел к стене, вынул из кармана зурну, и тотчас же комната наполнилась пронзительно-веселыми звуками. Первой захлопала в ладоши старая Зейнаб и ее примеру тут же последовали остальные женщины. Шариф, откинув голову назад и взметнув руки в стороны, словно крыльями, с гордой счастливой улыбкой на лице пошел танцевать. Подойдя к невесте, он встал на цыпочки, вытянувшись в струнку, кивком головы почтительно пригласил ее танцевать. Но невеста продолжала сидеть молча, неподвижно. Тогда Шариф весело и озорно топнул ногой перед ней, как бы напоминая ей о своем твердом желании станцевать с ней. Наконец невеста встала и, подняв руки, грузно поплыла перед ним. Только сейчас молодой человек с удивлением заметил, что у невесты подозрительно большой живот, до того большой, что заметно выпирает даже из-под шелкового покрывала и при каждом резком движении странно вздрагивает и ходит из стороны в сторону. Шариф с брезгливым ужасом подумал, что невеста, очевидно, в положении… Видимо, старая Зейнаб и ее родственники из-за этого только решили без шума, втихую, без посторонних свидетелей сплавить ее, отправить к жениху, по всей вероятности, виновнику ее положения. Теперь он понял и причину нерешительности и колебания невесты, когда он приглашал ее танцевать. И невольно подумал, что как должно быть ей сейчас неловко и стыдно перед ним, Шарифом. Да и сам он чувствовал себя весьма неприятно и с нетерпением ждал, когда невеста первой выйдет из круга, чтобы поскорее уйти отсюда. И Шариф в душе начал укорять себя за то, что затеял все это, заглянул в этот ненавистный ему дом.
Вдруг что-то большое и круглое с глухим ударом упало на пол из-под платья невесты и колесом покатилось к ногам ошеломленного молодого человека. Как ни странно, это был сыр, обыкновенный овечий сыр. Не успел Шариф прийти в себя, как на пол градом посыпались солидный кусок желтого сушеного курдюка, два чурека, несколько головок чеснока, какая-то бутылка, не то с вином, не то с уксусом… На глазах пораженного юноши произошло чудо: живот у невесты опал, как кузнечный мех, из которого разом выкачали воздух. Не менее удивленный и сбитый с толку этим музыкант Сафар так и застыл с умолкшей зурной во рту, а перепуганные женщины прекратили хлопать в ладоши.
Шариф с внезапно изменившимся лицом и горящими глазами одним прыжком подскочил к невесте и резким движением сорвал шелковое покрывало, скрывавшее ее лицо. И «невестой» оказался плотный бритоголовый мужчина. Лицо его было еще не старое, но уже рыхлое, с закрученными, вздрагивающими черными усами, а серые, слегка выпуклые глаза смотрели на молодого партизана растерянно и с ненавистью.
Шариф, который был готов разорвать своего обидчика и врага на куски, увидев его сейчас в таком жалком и смешном положении, без папахи, в просторном женском платье, вспомнив, как он только что корчил из себя скромную «невесту», невольно засмеялся, сперва тихо, почти сдавленно, а потом громко, раскатисто. Старухе Зейнаб при виде этого невыносимого и ужасного для нее зрелища стало дурно, и она с глухим стоном упала без чувств на руки своих растерявшихся и перепугавшихся невесток.
Телефон
Чёрт дернул меня поставить у себя дома телефон. И зачем я вбил себе в голову, что он мне очень нужен?! Ведь обходился же я, слава богу, без него, без телефона, столько лет. Его отсутствие нисколько не влияло ни на мой сон, ни на мой аппетит, ни на мое настроение. А с его появлением у меня пропало всё: и сон, и аппетит, и настроение. Больше того, из-за этого злополучного телефона, клянусь вам, меня едва не хватил удар.
А, впрочем, мне так и надо. Говорили же мне добрые люди из конторы связи. Особенно есть там один такой пожилой, худощавый человек с удивительно спокойным и приятным голосом, видимо, самый главный.
– Зачем вам, дорогой писатель, телефон? Ваше дело писать, писать и еще раз писать, а не растрачивать попусту свое драгоценное время на телефонные хабары-разговоры.
Честное слово, говорил. А я:
– Поставьте мне телефон – никаких гвоздей! Дом телефонизирован, у моих соседей есть телефон, а почему мне нельзя?
Мой довод, видимо, сразил самого главного, и мне через несколько дней установили телефон, такой модный, белый, красивый, хоть погладь его рукой, как живого. Одно лишь огорчало меня: телефон не подавал никаких признаков жизни. Через неделю я взял трубку (на работе, конечно), позвонил самому главному, робко пожаловался.