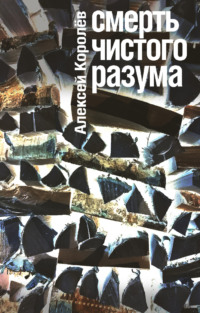
Смерть чистого разума
– Во французских кантонах третий класс ужасен, как это ни прискорбно. Вы сделали бы своему парню большое одолжение, если бы немного доплатили.
– Вероятно. Но молодость должна вдоволь испить трудностей, даже маленьких. Тем слаще будут плоды зрелости, да. Кроме того, подозреваю, что услышав мой немецкий акцент, кассир не осмелился предложить мне для молодого человека второй класс – он-то наверняка знает, что у нас все преспокойно ездят третьим.
– Между прочим, у вас вполне приличный французский, господин Зенн, не наговаривайте на себя.
– Это родной язык моей матушки, господин Целебан. Но практики в наших краях, конечно, маловато. Как долго ещё до Эгля?
– Судя по тому, что мы окончательно прижались к озеру, сейчас будет Веве. Значит, скоро Монтрё и потом начнём забирать в горы. Минут через сорок прибудем.
– Надеюсь, ресторан в гостинице ещё работает.
– Ручаюсь, что да. Они никогда не закрываются, пока последний поезд из Женевы не прибудет на станцию. Вы надолго в Эгль?
– Как пойдёт, господин Целебан, как пойдёт. Откровенно говоря, я впервые провожу свой отпуск не дома. Но у вдовца есть свои маленькие привилегии, не так ли? Вальтер одержим юриспруденцией, но ещё более он одержим фамильной историей. Вот он и откопал где-то, что самый дальний из известных мне моих предков, рыцарь Вольфганг фон Зенн, служивший под знамёнами Савойского дома, пал при обороне замка Эгль во времена Бургундских войн. Неплохая штука эта генеалогия. Могила, конечно, не сохранилась, да. Но всё равно. У вас-то, небось, генеалогическое древо на полстены висит, хе-хе.
– Только по материнской линии. Только по материнской.
* * *– Вы сказали «положение вне игры на своей половине поля»?
– Да. Это новейшее правило, оно введено только в прошлом году. В вашей семье кто-нибудь увлекается футболом?
– В нашей семье увлекаются вырезанием купонов и устройством выгодных партий для женщин. В этом смысле мы с мужем дурные овцы в стаде: он при первой возможности рвётся в горы, а я рвусь куда угодно из Женевы. А в Женеве играют в этот ваш футбол?
– Насколько мне известно, да. Хотя я и не знаю деталей. Но там, где появляется хоть сколько-нибудь англичан, тут же появляется футбольная команда. Думаю, что с англичанами в Женеве всё обстоит отлично.
– Наверняка. У моего деверя на шерстяной мануфактуре работают несколько англичан. Она находится в Сатиньи. Если ехать со стороны французской границы, то прямо перед станцией её отлично видно по правую руку.
– Для чего же устраивать в Женеве ткацкую фабрику?
– Наши предки из Лиона. Бежав от революции, они занялись здесь своим исконным ремеслом.
– Это бессмысленно.
– Что? Ткать?
– Бежать от революции.
– Как видите, не совсем. Четыре поколения наших семей это подтверждают.
– Четыре поколения с точки зрения истории – это ничто. Революция придёт и сюда, точно так же, как она вновь придёт во Францию.
– Господь с вами, не пугайте. Мой муж говорит, что во Франции уже было три мятежа и этого вполне достаточно. У народа вырабатывается какая-то естественная защита. Вроде оспопрививания.
– То, что вы называете «мятежами», во Франции случалось вовсе не три раза. Даже если не считать настоящие мятежи, вроде Фронды или Варфоломеевской ночи. И если про восстания ткачей на родине ваших предков в Лионе – а ткачи бунтовали как минимум трижды за последние семьдесят лет – вы могли и не слыхать, то «Отверженных» читали наверняка. А ведь роман этот о восстании тысяча восемьсот тридцать второго года.
– Неужели о восстании? Мне казалось, о бедняжке Козетте и жестоких Тенардье.
– Вы смеётесь. Это смех самозащиты. Вам до смерти интересно узнать если не про восстание восемьсот тридцать второго года, то уж про лионских ткачей точно.
– Вы угадали. Но не трудитесь. Я возьму что-нибудь в публичной библиотеке.
– Поищите подшивкуMélanges occitaniques за соответствующие годы. А если не найдёте, осмелюсь порекомендовать книгу под названием Le Littré de la Grand’Côte.Это словарь лионского языка, сочинение некоего господина Низье дю Пьюспелу. Там есть любопытные заметки о ткачах.
– Какого-какого языка?
– Лионского. Его ещё называют франко-прованским.
– Муж умрёт от зависти, когда я перескажу ему наш разговор. Напрасно он не стал меня ждать и уехал позавчера. Он обожает людей вроде вас. Дайте угадаю: вы историк и вы иностранец.
– Вы угадали только наполовину. Сфера моих научных интересов лежит скорее в области антропологической. Но позвольте и мне задать вам один вопрос. Вы сказали, что ваш муж обожает горы. Значит ли это, что он хорошо знает Альпы в тех местах, куда мы направляемся? Кажется, их называют Бернскими Альпами, хотя находятся они и в кантоне Во.
– Вы совершенно правы. Более того, я хотя и не имею того опыта, что мой муж, с некоторых пор сама увлеклась горовосхождениями. И именно в Бернских Альпах.
– Ещё того легче. Не расскажете ли в таком случае, что ждёт не слишком искусного альпиниста в этих местах?
– С превеликим удовольствием. Итак, самое подходящее для новичка место в этих краях называется – только не смейтесь – Дьяблере…
3. Из дневника Степана Маркевича
1/VIII-1908.Указал дату и сразу же позабыл, что именно хотел сперва записать. Завтра Ильин день, но здесь он – в августе и даже это простое и понятное расхождение дат приводит меня в смущение. До позавчерашнего дня я жил летом, пусть холодным русским, но летом. Сев в экспресс, я лишь аккуратно переводил стрелки хронометра, дата же меня не интересовала, все эти сорок пять часов я существовал по календарю родимой империи. И только пересаживаясь в Париже, мучимый целой толпой таможенников (помимо государственной, здесь есть ещё старомодная феодальная «октруа», сиречь таможня городская – эти пытали меня дважды; еле отбился), был вынужден смириться с тем, что здесь вот-вот август, почти что осень. В Париже по крайней мере стояла тёплая погода, здесь же – совершеннейшие дожинки, низкое портяночного цвета небо и мерзкий, совершенно петербургский дождик. Из-за облаков не видно никаких гор, и хотя я точно знаю, что если выйду на террасу, то прямо передо мной будет Се-Руж, а чуть поодаль – Ле Шамосер, но я могу только догадываться об их существовании. Μορφή[2] горы Се-Руж. Я тащился из Эгля в дилижансе, взяв, разумеется, не купе, а внутреннее место (потому что 15 сантимов разницы составляют стоимость письма в любую точку Швейцарии, да ещё пятачок сдачи) и, не видя вокруг ровным счётом ничего, утешал себя обещаниями самых роскошных пейзажей тут, в окрестностях Дьяблере (до которой мне непременно хочется добраться). Но, видимо, вертихвостка Тихе исчерпала свои симпатии ко мне чуть ранее, сперва дав беспрепятственно покинуть Россию, а затем показав на берлинском вокзале незадачливого воришку, чинно удалявшегося прочь с моим бумажником. Иначе я, вероятно, до сих пор бы сидел unter den Linden в ожидании перевода от Александрин. (Поездочка и так выходит почти в семьдесят целковых, боги, боги.)
Я проспал и вечерний чай, и завтрак, и это обстоятельство наилучшим образом подтверждает всё, что я ранее слышал об этом месте. Конечно, именно мне – именно русский врач не так важен, как иным другим, даже с учётом того, что он «из наших». Я в состоянии говорить о своих недугах и français и Deutsch. Вероятно даже, что совершенно чуждое окружение было бы мне полезнее. Но по крайней мере мне здесь гарантированы покойная кровать и чистый воздух. Сведущ ли В. в том, с чем ему придётся столкнуться в моем лице, неизвестно, но практику в Швейцарии получить непросто, в отличие от Франции, где, как говорят, есть даже доктора-американцы. Правда, сегодняшним поздним утром он беседовал со мной не столько как с пациентом, сколько как с постояльцем, осведомляясь о самых обыкновенных вещах, вроде здоровья А.М., который знаком ему по Гродно, или обстоятельствах недавнего ареста и освобождения Зиновьева. Он (я знал это и ранее) на короткой ноге со многими. В прошлом году здесь отдыхал Аксельрод. Доктор объяснил мне местные порядки – а они здесь установлены совершенно русские. Утром чай, чуть ли не в час пополудни обед с супом и зеленью, ранний ужин, тоже довольно плотный, после заката ещё раз чай. Крепкие напитки и даже пиво категорически воспрещены.
Санаторий сам по себе довольно велик и, по-моему, устроен преглупо. Разумеется, этоchalet: таким образом, мне сразу же предоставлена почти вся местная экзотика; осталось отведать сыра. Дом стоит прямо на дороге, ведущей из Эгля в деревушку Вер л’Эглиз – до последней четверть часа ходу – но совершенно обособленно: ни единого строения, кроме пресловутой Ротонды вокруг нет. Из четырёх этажей два верхних могут называться мансардой, ибо стенами им служит крыша. В четвёртом этаже, всего в два оконца под самым коньком живут домоправительница и её дочь, из которых я по приезде встретил первую. Её фамилия Бушар, зовут мадам Марин (а дочь, которую я видел мельком, – мадемуазель Марин, что, по-моему, очень практично) и я уже у неё в долгу: увидав, что кучер заносит мой чемодан в явном расчёте на сбережённый мной пятачок, она решительнейшим образом вырвала его у него из рук и самолично отнесла в мою комнату. Говоря откровенно, в другой руке она могла бы отнести и меня самого, ибо из известных мне людей мадам более всего смахивает на моего корпусного дядьку фельдфебеля Самуся – впрочем, тот был совершенно плешив.
(Неоднократно доводилось слышать о том, сколь некрасивы швейцарки. Несомненно, это есть род массового предубеждения, навроде того, что «англичанки надменны», «француженки ветрены», «венгерки развратны». Мне не доводилось сталкиваться с англичанками и венгерками, но те немногие француженки, которых я знавал, отличались как раз чрезвычайной чопорностью и высокомерием. Что до некрасивости швейцарских женщин, то по крайней мере моя давешняя попутчица не оставляет от этого мифа камня на камне. Да и хозяйская дочь вовсе не показалась мне дурнушкой, а если и выглядит несколько грустной, то тому есть вполне убедительные причины. Меня предупредили, что мадемуазель практически нема от рождения, да и слух находится почти в зачаточном состоянии, а впрочем, девушка превосходно читает по губам.)
Раз уж я начал сверху, продолжим. В третьем этаже живу я и, кажется, все комнаты здесь – «экономические». Если моя догадка верна, то все те пациенты В., которым Bettelbrief[3] полностью или отчасти заменяет кошелёк, селятся именно здесь и, пожалуй, не вправе роптать на условия. Впрочем, даже на мой непритязательный вкус обстановка в этих помещения спартанская. У меня, например, есть только шкаф с отделением для белья, простая кровать, пара стульев, туалетный столик и письменный стол. Обои свежие, но очень дешёвые, а единственное украшение – пейзажик на стене – кажется, приобретён на marché aux puces,блошином рынке. Главное же – комната узкая как пенал и более всего напоминает камеру, только в камерах обычно высокие, в три человеческих роста, потолки – здесь же даже я со своими пятью вершками задел лампу макушкой.
Комнат здесь пять, разделённых параллельным фасаду коридором. Три, в том числе и моя – по фасаду, и выходят окнами на Се-Руж и деревню. По соседству, кстати, воцарился Т. с его необъятным багажом. Две, задние – на другие, неизвестные мне горы и Ротонду. В коридоре висят те же пейзажики и почему-то портрет Шаляпина, тоже очень плохой.
Да, чуть не забыл: каждая комната здесь не пронумерована, а носит имя какого-нибудь города империи. Я живу в «Риге», на нашем третьем этаже имеются также «Лодзь», «Киев», «Харьков» и «Тифлис». Простая логика и немного знаний (недаром же я работал в Статистическом обществе!) заставляет меня предположить, что комнат на втором этаже четыре и называются они «Петербург», «Москва», «Варшава» и «Одесса».
Второй же этаж я описать пока не в состоянии, но это, думаю, ненадолго: моя генеральша явно обитает там, поскольку описанные в путеводителе Якубовича «почти роскошные апартаменты с ванной и ватерклозетом» явно не могут быть комнатами третьего этажа (хотя бы потому, что в моей комнате нет ни ванны ни клозета).Ergo, они на втором этаже. Её превосходительство же не может существовать без ванны, это ясно как день, а коль у меня к ней письмо от Александрин, то очень скоро я эти комнаты увижу. Тогда и опишу. Единственное, что бросается в глаза по крайней мере снаружи – резной балкон, опоясывающий один из углов санатория как раз на втором этаже. Почему он не сделан вокруг всего дома, непонятно, но выглядит это довольно симпатично.
Словно в насмешку над аскетичной теснотой третьего этажа, на первом здесь царит совершенно несуразный простор. Отделанные дубовыми панелями сени (слово hall здесь ещё менее подойдёт) вполне могли бы вместить офицерское собрание стрелкового батальона, особенно если убрать рояль, столь же уместный в санатории для нервнобольных, как и в стрелковом батальоне. К сеням примыкают справа и слева две комнаты, в одной из которых, левой, с зелёными обоями, меня и принимал В. и которая служит ему одновременно конторой, кабинетом и смотровой. Очевидно подобное триединство назначения наложило свой отпечаток на её убранство, где пара аптекарских шкапов с занавешенными изнутри белой гармончатой тканью стеклянными дверцами преспокойно соседствуют с огромным шкапом несгораемым, груда бумаг явно немедицинского назначения на столе – с самым настоящим охотничьим ружьём, правда очень коротким, аккуратно пристроенным на каминной полке, а совершенно роскошный персидский ковёр – с кардиографом. То же касается и украшающих кабинет картин и фотографий. Если изображённых на портретах маслом я не узнал (очевидно, это какие-то медики), то на маленьком столике в живописном беспорядке расположились карточки Гауптмана, Поддубного, Лилиной (кажется, с автографом), Фигнера и Морозова. Слева же от камина же доктор Веледницкий развесил собственные фотографии – правда, исключительно групповые. Судя по вензелям, доктор был запечатлён здесь в компаниях товарищей по Цюрихскому университету, какой-то клинике, стрелковому кружку, юбилейному заседанию по случаю 80-летия «Военно-медицинского журнала». В углу этой комнаты имеется внутренняя лестница, соединяющая, как пояснил мне В., первый этаж непосредственно с мансардой в качестве своеобразного чёрного хода для обеих Марин. Другая же лестница, парадная, ведет прямо из сеней на второй этаж, а оттуда – на третий (который тоже есть, в сущности, мансарда; надеюсь, что изложил достаточно ясно, чтобы прочтя эту запись через десять лет, быть в состоянии всё вспомнить). Таким образом, четвёртый хозяйский этаж совершенно изолирован от этажей гостевых, но сделано ли это специально или по недочёту, я не знаю. В правой комнате, гостиной, обои розовые с какими-то фантастическими птицами, точь-в-точь как на воротах Долгой Просеки, в ней имеются камин и ломберный столик и из неё в фасаде прорублено французское окно с дверцей на мощённую каменными плитами террасу, которая и есть, вероятно, самое уютное и приятное место во всем доме. Некий толстяк обосновался на ней по всей видимости с самого утра, захватил самый большойdeckchair[4] и наслаждается своей гаваной. Но и это ещё не всё. Напротив французского окна из розовой гостиной (или каминной, как её назвал В.) есть третья дверь, в столовую. Столовая оказалась такой маленькой, тесной и темной, что можно предположить, какое невысокое значение приёму пищи пациентами придаёт В. Напоследок: кухня и буфетная со столовой непосредственно не сообщаются, хотя и имеют общую стену; вход в эти помещения находится в сенях, под парадной лестницей. Всю остальную заднюю часть дома на первом этаже занимает квартира В. и, кажется, чуланы, но, разумеется, ни там ни там я не был, да и вряд ли побываю.
Исписал восемь страниц, а ведь ещё только полдень. И я ещё ни слова не написал про Корвина, а ведь я думал о нём всю дорогу из Эгля и проснувшись, первым делом спросил про Ротонду. Но стоял такой туман, что В. ничего не смог мне показать, хотя домик вроде бы находится в полусотне шагов от пансиона. Спрошу в своё время. Нужно спуститься на обед, а для того – одеться поприличнее: В. предупредил, что в пансионе, кроме генеральши и её компаньонки Луизы Фёдоровны, есть ещё одна дама. Утомительная власть этикета; жаль, что нельзя заказать что-нибудь в комнаты, хоть колбасы. Мне безразлично, чем питаться, но последний раз я ел тридцать часов назад в Женеве и хорошая рубленая котлета с жареным картофелем была бы сейчас более чем уместна. И очень хочется кофе, надеюсь, что здесь он по крайней мере лучше, чем в России.
Десять лет назад, 1/VIII. 1898 ничего примечательного не происходило
4. Знатоки умеют вовремя уйти
Кофе в санатории оказался прескверным.
– Рио-нуньец, – сказал Николай Иванович Скляров, отодвигая чашку. Впятером они сидели на террасе, воспользовавшись тем, что дождь как раз прекратился, пока они обедали. – Бенедиктину бы к нему хорошо-с, да только я крепкого не пью. Впрочем, доктор вообще здесь это всё не одобряет, даже кофе. Говорит, возбуждает, а здесь и так воздух разреженный.
– Если я не ошибаюсь, – Маркевич близоруко сощурился в поисках пепельницы, – идея лечить нервные болезни в Альпах вообще довольно дерзка с точки зрения медицинской науки.
– Вы и ошибаетесь и не ошибаетесь, – ответил Скляров. – Мы с вами на высоте где-то четырёх тысяч футов. Швейцарцы, которые не менее британцев обожают всё систематизировать, утверждают, что данная коммуна находится на границе второй и третьей высотных зон, то есть там, где совершенно мягкий, привычный для равнинного жителя климат постепенно становится похожим на настоящие горы с их сухим воздухом и пониженным барометрическим давлением. Да, горы, даже не слишком высокие, немного повышают раздражительность, с этим никто и не спорит. Но на здешних высотах это решительно незаметно, зато мускульная деятельность сердца – так утверждает доктор – вследствие сухости воздуха и пониженного давления активизируется многократно, а это даёт не раздражительность, а только бодрость духа и прилив сил. Что чрезвычайно полезно не только для анэмиков, но и вообще для лиц ослабленных, в том числе и нервно. Кроме того, единственный критерий истины есть практика, а тут нашего доктора нечем бить: результаты прямо-таки поразительные. Один миллионщик Балябин чего стоил. Родственники совсем уже собирались его у Чечотта запереть, да и, полагаю, состояние притибрить, а здесь за четыре месяца на ноги встал, в позапрошлом году в Милане на выставке большую серебряную медаль за свой новый доменный завод отхватил. Вы же знаете его наверняка, Алексей Исаевич?
Человек, к которому обратился Скляров, сделал плечами движение, которое могло одновременно означать и «Да откуда?» и «Ну разумеется!» и закончив это, вероятно весьма утомительное, упражнение, вновь припал губами к потухшей сигаре. На вид ему можно было дать и тридцать и пятьдесят, в шезлонге он помещался еле-еле, впрочем, как и в тёмной суконной тройке, пересечённой по талии золотой часовой цепочкой.
(За обедом он тоже хранил полное молчание, лишь однажды попросил Маркевича передать ему соль. Обедали все за обширным, почти во всю площадь небольшой столовой, овальным столом, впрочем, полупустым: обещанные Веледницким дамы отсутствовали, да и сам доктор, как оказалось, столуется у себя.)
«В странную компанию я попал, – думал Маркевич, пытаясь разглядеть в небе хоть какой-то намёк на то, что пробьётся солнце. – В империи полтораста миллионов душ. Из них, вероятно, процента два имеют возможность приехать на заграничный курорт. Пусть даже один процент, пусть половина. Все равно получается орда. И вот из этой орды за тысячи вёрст от России собираются под одной крышей полдюжины человек, почти каждый из которых в той или иной степени мне известен. Даже если не считать Тера. Ну, конечно, я ничего не знаю о жене Лаврова, но самого-то Лаврова я читал и много читал. И “Усадьбу Зайцевых” видел в Практическом театре. Интересно, что он здесь лечит? Творческий кризис в форме нервного ослабления? Последняя его вещь, как её, “Человек из Порто-Франко”, совсем плоха. Удивительно, что он очень небольшого роста, ниже меня.
И про Алексея Исаевича Шубина я слышал. “Товарищество русских велосипедных заводов”. В “Новом времени” со щенячьим восторгом писали, что подлинное величие промышленности не в дредноутах и паровозах, а в велосипедах и коньяке отечественной фабрикации. Кажется, Шубин из старообрядцев, Исай – очень распространённое у них имя. Но если и так, то точно из бывших – сигару изо рта не выпускает даже потухшую.
К генеральше у меня приватное письмо, про Склярова нечего и говорить. “Товарищи по убеждениям”, одна из первых революционных прокламаций, которую я держал в руках, политическое завещание участников “Процесса 193-х”. “Уходя с поля битвы пленными, но честно исполнившими свои долг”… Там есть и его подпись».
– …преимущество какого-нибудь бузинного цвета перед хинином кажется мне абсурдным. Предложите больному гемиплегией нарзану, благодарю покорно. Не вижу ни единой причины противостоять в этом случае прогрессу; хотя все мы здесь, кажется, большие прогрессисты.
– Тут паралытиков нэт.
– Я и не утверждал ничего подобного, господин Тер-Мелкумов, – отозвался Лавров. – Я всего лишь привёл в пример заболевание, которое было неизлечимо дедовскими методами, а теперь довольно успешно врачуется средствами современной науки. Воздух, разреженный он там или нет, прогулки, гомеопатия, сон по десять часов и парёная марь с выпускным яйцом на закуску – всё это прекрасно, не спорю. Но коли у меня заболит голова, я приму порошок антипирина. Как вы сказали давеча за обедом, господин Маркевич? «Человечество не может быть истреблено хотя бы потому, что оно придумало виндзоровскую плиту»? Вот примерно то же самое я думаю про ваши воды, Николай Иванович.
– И вы с ним согласны, Степан Сергеевич? – жалобно спросил Скляров.
– Нет. Я твёрдо стою за домашнее лечение – валерианой, ромашкой, бараньей травой, французской водкой с солью, электричеством и магнетизмом, – сказал Маркевич и поднялся с кресла. Тер тихо хихикнул.
– Между прочим, – заметил Скляров, – вот Александр Иванович с утра принимает ледяные ванны. Прямо на заднем дворе. А вы посмотрите, какой он здоровяк.
– Это правда? – спросил Лавров.
– Не совсем, – ответил Тер-Мелкумов. – Я обливаюсь по утрам холодной водой. С самого детства. Не знал, что за мной наблюдали, да ещё в такую рань.
– Преотличнейше наблюдали, – воскликнул Николай Иванович. – Мы здесь рано подымаемся. Мадам обжаривала кофе, я смотрел утреннюю почту, а мадемуазель куда-то запропастилась. Пошли её искать, а она на вас глазеет из смотровой. Мадам Марин очень на неё ругалась.
Тер-Мелкумов вдруг густо покраснел, и все это заметили. Был он довольно высок, сух и гибок, длиннорук и коротконог, носил гвардейские усики, отлично сидевшую на нём клетчатую пару и светлые суконные гамаши поверх новеньких стетсоновских ботинок. Два часа назад, перед обедом, Веледницкий представил Маркевича остальным сотрапезникам: «Ну, а с Александром Ивановичем вы, вероятно, знакомы? Одним же поездом ехали?» Оба новых гостя весьма натурально замотали головами и сделали вид, что рады, весьма рады.
– А вот и доктор с почты возвращается, – сказал вдруг Скляров, указывая на показавшийся из-за поворота велосипед. – Пойду встречу. Степан Сергеевич, Александр Иванович, у меня к вам дело, не забывайте!
С этим словами словоохотливый старичок выскользнул в стеклянную дверь и через секунду уже выговаривал по-французски мадемуазель Марин за плохо отдраенную дверную ручку.
– Он здесь, кажется, за домоправителя, – сказал Лавров, провожавший Склярова долгим взглядом через плечо. – Вчера он ругался с мальчиком мясника, да так самозабвенно, что мы бросили своё лото. А пару дней назад я видел, как он вешал в смотровой герб.
– Герб?
– Герб Веледницкого. Он висит над дверью, так что вы его, возможно, не заметили. Это «Топор».
– Мало кто столь несведущ в геральдике, как я, – вздохнул Маркевич. – Что значит «Топор»?
– В Польше все гербы имеют имена собственные. Их очень мало, можно сказать, наперечёт. И употребляется каждый не одной фамилией, а несколькими, иногда до сотни дело доходит. Вот Веледницкие – как и Грабовские, например, или Забеллы – род герба «Топор». В червлёном поле топор, остриём вправо. Лезвие – серебряное, рукоятка золотая.
– Невероятно. И господин Скляров этот герб вешал?
– Своими глазами видел. Приволок откуда-то стремянку, вскарабкался, вбил гвоздь… Я читал когда-то юбилейную статью о нем в «Заграничной газете». «Мирабо нашей революции», «Витязь свободы», «Самый дерзновенный побег в истории русской каторги» и всё в таком роде. Не знал, что в жизни он так суетлив.
– А вы давно здесь?
– Да уж с неделю, – ответил Лавров. – Елена Сергеевна почти силком затащила. В Ницце ещё слишком жарко, ну а мы люди вологодские. Но здесь недурно: тишина и воздух хороший. Да и секретаря моего Веледницкий за полцены устроил. Правда, в задней комнате.