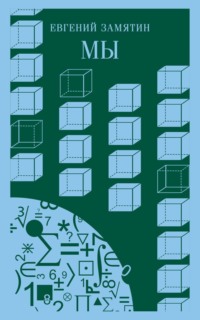
Мы
– Уйдите, – но от слез вышло у нее «ундите» – и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.
Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом – легкий, чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегает вовсю. Что будет за ночь?
О молча скользнула мимо меня, к лифту – стукнула дверь.
– Одну минутку, – крикнул я: стало страшно.
Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз…
Она отняла у меня R.
Она отняла у меня О.
И все-таки, и все-таки.
Запись 15-я.Конспект:КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ.МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬТолько вошел в эллинг, где строится «Интеграл», – как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое – тарелка, и говорит – подносит на тарелке что-то такое нестерпимо-вкусное:
– Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, – происшествие.
– Происшествие?
– Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать – и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался – понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем… (Улыбка – вкусная…)
В Операционном – работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там – разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше… Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат – с применением различных газов, и затем – тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель – забота о безопасности Единого Государства, другими словами, о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же – режут горло живому человеку. И все-таки один – благодетель, другой – преступник, один со знаком +, другой со знаком —…
Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус – и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули – а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече – прижавшись к правому плечу, I – рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман… все люблю, и все – упругое, новое, удивительное, все – хорошо…
– Все – хорошо, – вслух сказал я.
– Хорошо? – кругло вытаращились фаянсовые глаза. – То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился… стало быть, они – всюду, кругом, все время, они тут, они – около «Интеграла», они…
– Да кто они?
– А почем я знаю, кто. Но я их чувствую – понимаете? Все время.
– А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели – фантазию вырезывают? (На днях в самом деле я что-то вроде этого слышал.)
– Ну, знаю. При чем же это тут?
– А при том, что я бы на вашем месте – пошел и попросил сделать себе эту операцию.
На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый – ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия… Впрочем, что же: неделю назад, вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь – теперь нет: потому что я знаю, что это у меня есть, – что я болен. И знаю еще – не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все – под нами внизу – как на ладони…
Вы, читающие эти записки, – кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, вы знаете, какое бывает – какое может быть – утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух – чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все – живое: живые и все до одного улыбаются – люди. Может случиться, через час исчезнет, через час выкаплет розовая кровь, но пока – живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «Интеграла»; я вижу: «Интеграл» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы – вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.
Корпус «Интеграла» почти готов: изящный удлиненный эллипсоид из нашего стекла – вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра – шпангоуты, продольные – стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды могучий хвост «Интеграла» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство – и будет нестись, нестись – огненный Тамерлан счастья…
Я видел: по Тэйлору, размеренно и быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники, ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны, и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «Интеграла», свои грузы. И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка… Скорее – вниз, к ним, с ними!
И вот – плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом… Мерные движения: упругокруглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.
И вдруг один безмятежно обернулся ко мне:
– Ну как: ничего, лучше сегодня?
– Что лучше?
– Да вот – не было-то вас вчера. Уж мы думали – у вас опасное что… – сияет лоб, улыбка – детская, невинная.
Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог, не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул…
Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.
– Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями и узловые моменты дают напряжение на квадратной.
Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх – я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза – рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному, – здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне – вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза, – вечно, пока я наконец не найду силы пройти и —
И ледяная искра – насквозь: я – пусть; я – все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже…
Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу – был «Интеграл», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это – только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно…
– Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову… Что с вами? – Это Второй Строитель – прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.
Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет – и я не знаю, куда мчусь: вниз – и сейчас обземь или вверх – и в солнце, в огонь…
Запись 16-я.Конспект:ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ.НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУШАНе записывал несколько дней. Не знаю сколько: все дни – один. Все дни – одного цвета – желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее – а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме…
С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад – не знаю: все дни – один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку – по плечо ей – двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый – запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей – необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову S – нагнулась к тому с пальцами-лучами. Мне послышалось слово «Интеграл»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова – желтый, иссушенный путь.
Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором – и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.
И может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это – она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?
S… Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной – как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина – она, I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я…
Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг – у вас странное ощущение: руки – посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг – непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея – закована. И я бегу, бегу все быстрее и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее – никуда, никуда…
У себя в комнате наконец один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке – легкий шум, чьи-то шаги в коридоре – мимо дверей ее комнаты, и молчание… Бросаю трубку – и не могу, не могу больше. Туда – к ней.
Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллионноногий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.
Вот сейчас откуда-нибудь – остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей и темные окна глаз, и там, внутри, пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» – непременно «ты»: «Ты же знаешь – я не могу без тебя. Так зачем же?»
Но она молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу – Музыкальный Завод и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я один, я опоздал. Кругом – стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде – в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.
Мне нужно скорее, сию же секунду – в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и А может быть, это и будет самое лучшее.
Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное – сразу все кончить, сразу все искупить.
Легкий шорох, и передо мною – двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал – что-нибудь нужно было сказать:
– Мне… мне надо в Медицинское Бюро.
– За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?
Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги, я молчал, весь полыхая от стыда.
– Идите за мной, – сурово сказал S.
Я покорно пошел, размахивая ненужными, посторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой мире: вот какие-то машины – фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже – скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.
Остановились. Передо мною – ступени. Один шаг – и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол…
С силой, каким-то винтовым приводом, я наконец оторвал глаза от стекла под ногами – вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»… Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня – об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком – через ступени, плотно захлопнул за собой дверь – и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце – и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди…
Двое: один – коротенький, тумбоногий – глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой – тончайший, сверкающие ножницы-губы, лезвие-нос… Тот самый.
Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия – что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.
– Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.
Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа —
– Это… очень опасно, – пролепетал я.
– Неизлечимо, – отрезали ножницы.
– Но… собственно, в чем же суть? Я как-то не… не представляю.
– Видите… как бы это вам… Ведь вы математик?
– Да.
– Так вот – плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот – видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон – мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте – от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней – все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми – дети вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала – внутри вас – солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает, а это – впитывает, и от всего след – навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице – и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля – и вы слышите сейчас…
– Да, да, именно… – я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника – медленно капают капли в тишину. И я знал, это – навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было – и вдруг… Почему ни у кого нет, а у меня…
Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.
– Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев – одни только лопаточные кости – фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже ненужны – есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья – чтобы летать, а нам уже некуда: мы – прилетели, мы – нашли. Не так ли?
Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабинета, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.
– В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) – я вам говорил: надо у всех – у всех фантазию… Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия…
Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа – в мой мозг, записывал что-то в книжку.
– Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы… заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно… это помогло бы нам предупредить эпидемию… Если у вас, разумеется, нет особых оснований…
– Видите ли, – сказал он, – нумер Д-503 – строитель «Интеграла», и я уверен – это нарушило бы…
– А-а, – промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.
Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:
– По секрету скажу вам – это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее – очень похожее, очень близкое… – он пристально посмотрел на меня. На что он намекает – на кого? Неужели —
– Слушайте… – я вскочил со стула. Но он уже громко заговорил о другом:
–…А от бессонницы, от этих ваших снов – могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь… ну хоть бы к Древнему Дому.
Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово – букву – имя, единственное имя… Или это опять только фантазия?
Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча крепко сжал ему руку и выбежал наружу.
Сердце – легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра – какая-то радость. Какая?
Запись 17-я.Конспект:СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫЯ совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы – в моем уравнении появились новые неизвестные.
Начало координат во всей этой истории – конечно, Древний Дом. Из этой точки – оси Х-ов, Y-ов, Z-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси Х-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне – пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, остро-капающие капли из умывальника – так было, было однажды. И все это, разрывая мясо, стремительно крутится там – за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».
Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев – встал на дыбы – сейчас захлестнет меня, и из человека – тончайшего и тончайшего из механизмов – я превращусь…
Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном – стекло Стены. О великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир – от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных…
Сквозь стекло на меня – туманно, тускло – тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза – в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый, – в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни – счастливее нас?»
Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он – счастливее нас! Может быть, счастливее меня – да; но ведь я – только исключение, я болен.
Да и я… Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома – и милый заросший старушечий рот – я кидаюсь к старухе со всех ног:
– Тут она?
Заросший рот раскрылся медленно:
– Это кто же такое – она?
– Ах, ну кто-кто? Да I, конечно… Мы же вместе с ней тогда – на аэро…
– А-а, так, так… Так-так-так…
Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня, – все глубже… И наконец:
– Ну, ладно уж… тут она, недавно прошла.
Тут. Я увидел: у старухиных ног – куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома – это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней – от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза – мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам – одна общая, буйная, великолепная кровь…
Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так вот: я нагнулся – и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась…
Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты – почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около – не во мне, а где-то около меня – мое сердце.
Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там – ключ со старинным кольцом. И никого.
Я тихонько позвал:
– I! Ты здесь? – И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, – так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: – I! Милая!
Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить почему, но только это было мне неприятно; я крепко завернул кран, вышел. Тут ее нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».
По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной, «нашей» квартиры, и там – никого.
И все-таки – опять туда, сам не знаю зачем. Я шел медленно, с трудом – подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести – константна. Следовательно, все мои формулы —»
Тут – разрыв; в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я – снова легкий, легчайший – бросился к перилам – перегнуться, в одном слове, в одном крике «Ты!» – выкрикнуть все…
И захолонул: внизу – вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.
Молнией – один только голый вывод, без посылок (предпосылок я не знаю и сейчас): «Нельзя – ни за что – чтобы он меня увидел».
И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх к той незапертой квартире.
На секунду у двери. Тот – тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная; заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо – зеленое, красное, желтый Будда – я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы… Я слышу – сквозь шум крови – опять скрипит дверь… Это он, он.
Я ухватился за ключ в двери шкафа – и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне – опять мгновенный, голый, без посылок, вывод – вернее, осколок:
«В тот раз —». Я быстро открываю дверь в шкаф – я внутри, в темноте, захлопываю ее плотно. Один шаг – под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.
* * *Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах – и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и – сколько я знаю – совершенно неизвестное у нас.
Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5—10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую – вниз, вниз… Протянул руку – ухватился – царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно – все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?
Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом – так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три – все вниз. Наконец мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами, – теперь неподвижно. В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул – открылась дверь – тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся – но уже было поздно: я был отрезан здесь… где это «здесь» – не знаю.
Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах – лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло – о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны… Все равно: надо идти.
Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса – не знаю, но только я – возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.
Постучал, еще раз – громче. За дверью – затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.
Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше, – передо мной был мой лезвиеносый, тончайший доктор.
– Вы? Здесь? – и ножницы его так и захлопнулись. А я – я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть, что мне надо уйти отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора – и толкнул в спину.
– Позвольте… я хотел… я думал, что она, I-330. Но за мной…

