
Моя жизнь и мои путешествия. Том 1
Я, конечно, отрицал это изо всех сил.
Я осчастливил ее своим ответом, а тогда она рассказала мне, какой почетной была похоронная процессия дедушки, все магазины в городе были закрыты. В доме не осталось ни одного еврея, даже многие гои шли за гробом. Весь город был в трауре. Среди дедушкиных детей только мой отец обладал многими качествами, унаследованными от него.
Мои родители, Маркус и Сара Мышковские
Будучи бывшим учащимся иешивы, он мог хорошо учиться и очень любил светское образование. Он был в полном смысле этого слова современным человеком с горячим еврейским сердцем. Будучи адвокатом, он принципиально никогда не защищал преступника и никогда не признавал суда христианина над евреем. Мой отец говорил и читал на нескольких языках и был большим любителем прекрасной литературы. Он также много писал на идише. Большая работа: «Палестинская эмигрантка» навсегда осталась в моей памяти. Насколько я помню, это было литературное произведение с сильным патриотическим содержанием, в котором он выдвигал идеи Ховевей Циона («Любящих Сион»). Он также писал драмы, комедии и рассказы. Очень часто он читал что-нибудь из своих сочинений матери, нам, детям, и гостям дома. Однако в то время не было идишских периодических изданий и издателей, поэтому он не мог их печатать. Лишь после его смерти, когда мать, которой в то время было уже восемьдесят лет, осталась одна, она, не желая, чтобы все сочинения попали неизвестно куда, сама все уничтожила. (См. статью моей матери: «Из старого Копыля. Воспоминания Сары Мышковской», Jiwobleter, март-апрель 1937 г.) 16
Из того времени я также почти не помню первую эпоху движения «Любящих Сион» восьмидесятых годов. Помню, как мой отец возился с «кампанией». Он был председателем и секретарём организации в Мире. В нашем доме часто проводились собрания, на которых выступал мой отец. Помню, как в день моего рождения живший в нашем доме «любящий» покинул наш город и вместе со своей семьей отправился в Землю Израиля. Из-за этого в нашем доме стоял гул, все разговаривали и наутро все «любящие» провожали его из города. Тогда я потерял соседа по комнате. Это был странный мальчик, который отправился со своим отцом в Землю Израиля и в своих детских фантазиях я представлял, как мой друг станет пастухом на горах Сиона, и я очень ему завидовал…
В последующие годы отец часто просил у меня нелегальную литературу революционного движения, а когда я ее давал, это было для него очень важно, и, довольный, он заходил в кабинет, закрывал дверь и внимательно читал. Иногда он делился со мной своими впечатлениями и мнениями. По натуре он был мягким, добросердечным и умным евреем. Моя мать была совершенно другим человеком. Она была очень способной и необычайно умной. В практических жизненных вопросах она понимала гораздо больше, чем ее муж. У нее была железная память. Она часто рассказывала нам свои воспоминания о том времени, когда она ещё была двухлетним или трёхлетним ребенком. Она была первой женщиной в Мире, носившей собственные волосы, и первой в городе, у которой на кухне не так строго соблюдалась кошерность (не забывайте, что это было более семидесяти лет назад). Хотя у нее был более твёрдый характер, чем у моего отца, и она лучше понимала различные ситуации, и была более практичной, чем он, она всегда уважала моего отца и считала его выше себя. Моя мама много читала, любила петь еврейские и русские песни и никогда не могла забыть то впечатление, которое на нее однажды, когда она была невестой, произвёл спектакль в еврейском театре Минска. Она была заметной фигурой в Мире, а затем в Несвиже. Женщины приходили к ней со своими тайнами и просьбами, как к хорошей еврейке. Многие мужчины приходили к ней за советом, а самые умные женщины приходили провести с ней время.
У нее было одиннадцать детей, двое из которых умерли в младенчестве, осталось девять: трое мальчиков и шесть девочек. Я был третьим ребенком. Моя мать пережила много трагедий. Но самое страшное для нее было то, что почти все дети рано покинули ее, в шестнадцать – семнадцать лет они уже не хотели оставаться в городе. Какая-то тайная сила гнала их оттуда. Начало положила старшая сестра Тайбеле, уехавшая из штетла в Америку в семнадцать лет. Я и мой старший брат Моше уехали из города через несколько лет. Мы провели некоторое время в Варшаве, а потом также уехали в Америку. Все остальные дети уехали после нас, они тоже уехали в Америку. До свадьбы с ней осталась только наша младшая сестра. Но сразу после замужества она тоже ушла от родителей и поселилась в Минске. Так мать и осталась одна с отцом до старости. После его смерти она оставалась одна более пятнадцати лет. Много лет назад, когда Россия заняла Несвиж, к ней из Минска приехала ее младшая дочь Юдит и увезла ее в Минск. Она была уже стара, больна и слепа. Недавно, после Второй мировой войны, я узнал, что она умерла в Минске одна, брошенная, потому что моя сестра с детьми были эвакуированы вглубь России, не имея возможности взять с собой 93-летнюю мать…
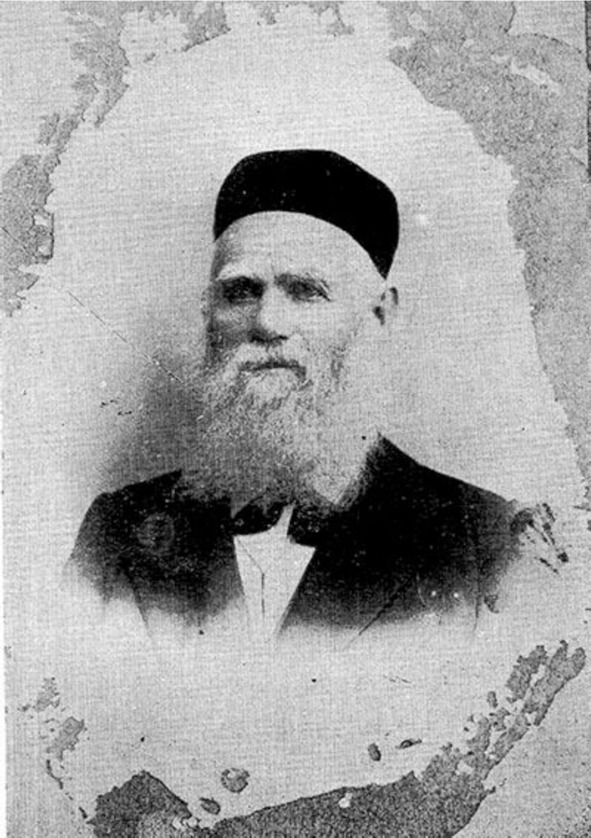
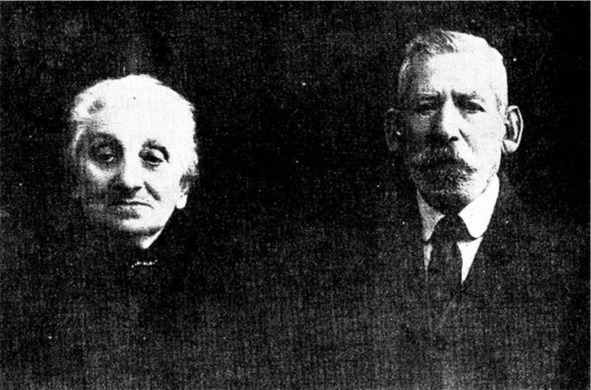
Глава 3
Мое детство
Я точно не знаю, в каком месяце и в каком году я родился. Но официально я родился 18 ноября 1878 года, а это значит, что мне сейчас 69 с половиной лет. Первые четыре года я был больным ребенком. Я страдал от слабых костей. Мою болезнь называли рахитом. Все эти четыре года я не мог ни стоять, ни ходить. В то время я сидел весь день и просто смотрел на мир. Моя мать буквально отдала свою жизнь, чтобы вылечить меня от рахита. Когда местные врачи не смогли меня вылечить, она поехала со мной к известным врачам в другие города. Врачи посоветовали ей сажать меня всем телом на горячий песок. Каждый день в летние недели она несла меня на окраину города и закапывала по шею в песок. Ей также пришлось часто противостоять гойским пастухам и их злым собакам. Тем не менее она не оставляла свой тяжкий труд до тех пор, пока я полностью не вылечился и не смог встать на ноги.
Следующий случай произвел на меня самое сильное впечатление в те ранние детские годы:
Прекрасным и теплым утром я впервые вышел один на улицу, светило солнце и дома тонули в лучах солнца, люди спешили и играли дети. Мне это очень понравилось, и я остановился посмотреть, как играют дети. Они спросили меня, не хочу ли я с ними поиграть. Я, конечно, согласился. Меня отвели во двор дома, и там мы зашли в конюшню, где и играли. Я получил огромное удовольствие от этой игры, потому что впервые в жизни играл с другими детьми .
Год спустя мама отвела меня к моему первому учителю Киве Кугелю. Я также занимался с двумя другими учителями. Я ходил к ним почти четыре года. За это время я узнал об Иисусе Навине, Судьях, Самуиле, и на этом мое старое еврейское образование было почти закончено.
В то время мы жили у Доджена (Давида) – еврея, который писал прошения к российским чиновникам. Он был вдовцом и любил горькие напитки. Он всегда приходил домой очень поздно. Его сын Берл, тринадцатилетний мальчик, уже посещавший русскую окружную школу, стал моим первым учителем русского языка. Вскоре мои родители отдали меня в русскую начальную школу. Во время учебы в государственной школе я учился у двух частных учителей. У учителя Вайнера я учился ивриту и зашел так далеко, что перевел историю «Робинзона Крузо» с русского на иврит. Я также изучал и немецкий язык у немки, фройлен Тец. 17
Наш дом был самым интересным и продвинутым домом в нашем штетле. Часто к нам приходили судья Борзов, городские врачи, аптекарь, студенты, когда приезжали домой на каникулы. В нашем доме часто говорили о политике, о литературе и о еврейской ситуации в России. Однажды я подслушал горячую новость об убийстве Александра II и потом целую ночь не мог заснуть. Передо мной проплывали образы отважных народовольцев Желябова, Перовской и других. Но больше всего я любил вечера, когда отец читал свои рассказы или слушал роман о жизни в Мире, написанный в то время часовщиком Менделем Циринским. Насколько я помню, он был написан с большим талантом. Его приход и чтение были для меня большой радостью. Моим родителям пришлось расстроиться из-за этого романа. В середине написания романа он уехал в Америку и более того: больше мы о нем ничего не слышали. 18 19 20 21
В детстве я был набожным и часто ходил в синагогу. Однажды, когда я молился, кто-то принес новость, что в каких-то двух городах Украины случились погромы евреев. Хотя мне тогда было шесть-семь лет, я прекрасно понял, какое тяжелое впечатление произвела эта новость на молящихся евреев. Я никогда не видел такого горя в общине, состоящей из нескольких сотен евреев, даже в своей дальнейшей жизни. Их душераздирающая скорбь навсегда запечатлелась в моей детской душе, и даже теперь я вижу в своем воображении ужаснейшие картины того, как украинские погромщики убивают евреев, женщин и детей.
В то время мой отец был очень занят созданием образовательных курсов для нашей бедной молодежи. Он утверждал в одной из речей, что вся проблема евреев состоит в том, что мы занимаемся только непроизводительным трудом, а лавочников, трактирщиков, шинкарей и коробейников у нас больше, чем нам нужно. Один соперничает с другим, и вырывает у него последний кусок изо рта. Антисемитизм, – утверждал он, – также проистекает из того факта, что мы черпаем своё счастье из запаха на рынке, из ветра. Мы должны открыть в нашем городе ремесленную школу, где нашу молодежь следует учить обрабатывать землю или готовить из нее хороших портных, сапожников, слесарей. Пусть наша ремесленная школа – заканчивал он свои частые проповеди, – послужит примером для соседних городов и поселков, как можно перейти от загрязнения воздуха к производительному труду.
Но он не только агитировал, но и с железной решимостью шагнул вперед к осуществлению своей мечты. Через Еврейское Общество ремесленного труда, находившееся тогда в Петербурге, он добыл для этой цели деньги и также после долгих переговоров в высоких правительственных сферах согласился построить дом для такого учреждения. Однако, когда все было почти закончено, случился крупный экономический кризис, из-за которого все работы были остановлены. Но еще до остановки работ минчане были очень расстроены тем, что такое заведение строится в таком маленьком городке, как Мир, а не у них. Они собрали еще большие суммы, отправили в Санкт-Петербург еще более крупных лоббистов и убедили правительство и Санкт-Петербургское еврейское общество открыть такое же профессиональное училище и в Минске. И вскоре такое ПТУ все-таки открылось в Минске. Можно смело сказать, что открытие в Минске в то время первой ремесленной школы было вдохновлено моим отцом, но мечта отца основать такую школу в штетле не была реализована. 22
Когда мне было девять лет, в нашем доме произошло событие, которое так на меня подействовало, что в течение нескольких месяцев я ощущал себя взрослым. У нас тогда даже своего дома не было, мы жили в арендованном доме. В, том же доме жил еще один сосед, презираемый еврей из кантонистов – Босс, как он себя называл, – со своей женой-христианкой и тремя взрослыми сыновьями. Вход в наши квартиры был через общий коридор. Однажды на Рош ха-Шана, когда мои родители ушли в синагогу, я остался дома, чтобы присматривать за младшими детьми. Около двенадцати часов дня мать пришла из синагоги домой, чтобы посмотреть, чем занимаются маленькие дети. Но как только она вошла в коридор, христианка и трое её взрослых сыновей набросились на нее с палками и начали избивать. Мать издала ужасный крик, мы, дети, перепуганные до смерти, открыли окно на улицу и начали громко кричать: Они бьют нашу мать». Христианка, услышав крик матери и наши голоса, тут же вместе с сыновьями вбежала в дом, заперев за собой дверь. Тем временем прибежали евреи из общины, уложили мою мать на кровать, затем открыли дверь гойки и выразили ей должное осуждение… Через несколько минут прибежал мой отец в сопровождении двух крепких молодых людей: Хершеля Кажея (дяди Моше Йоны Хаймовича) и Муния Мате Ривса, и вы можете сами себе представить, что произошло дальше. Кантониста в это время не было дома, он как фельдшер разъезжал по деревням вокруг нашего штетла. Но как только он вернулся домой, он снял другую квартиру и уехал из нашего дома вместе с семьей. Потом был суд. Но судья действовал так, чтобы мы могли помириться, и ни одна из сторон не понесла никакого наказания. 23 24 25
И другое событие оказало на меня сильное влияние в юности. Когда мне было одиннадцать лет, к нам приехал особый гость, которого звали «Ефим». Он не смел выйти из дома. Он видимо от кого-то прятался, а нам, детям, велели никому не рассказывать о госте. Он называл мою маму тетей, а папу отцом. Мы, дети, не знали, кто он такой и почему скрывается. Мы заметили, однако, что наши родители относятся к нему с большим уважением и любовью и что все вечера до поздней ночи он пишет на русском языке. Со временем мы узнали, что он был сыном сестры моей матери, что он учился в Москве, что после еврейских погромов в 1882 году он присоединился к движению Билу, покинул Россию и свою богатую жизнь и уехал в Эрец-Исраэль. Там он обрабатывал землю, копал колодцы, прокладывал дороги, был земледельцем, даже приобрел виноградник в семнадцать тысяч лоз, привез туда свою невесту, женился на ней, воспитал детей. Но я не знал, почему он вернулся оттуда. Однако он весьма вырос в моих глазах, когда я понял, что он переписывается с еврейским историком Ш. Дубновым и идиш-русским поэтом Ш. Фругом, чьи творения я пожирал буквально как голодный. Его величие в моих глазах еще больше возросло, когда я понял, что по ночам он пишет книгу «Записки палестинского эмигранта». Позже я также узнал, что он в это время написал еще одну книгу «Заиорданье». Обе книги впоследствии были напечатаны частями в идиш-русском журнале «Восход». 26 27 28
Когда он проводил время в нашем доме, он очень часто рассказывал нам странные истории, и мне очень нравились его рассказы о народе Израиля и арабской жизни. И он говорил о Земле Израиля с такой теплотой и любовью, что у меня тогда возникла мысль, что если бы у меня был шанс в жизни, то первое, что я сделал бы, это перебрался бы в Землю Израиля.
Самое сильное впечатление на меня произвела история о том, как он путешествовал по Земле Израиля: вместе с другими студентами и завершил рассказ, словами: «Когда мы сошли с корабля в Яффе, которая представляет собой порт из камней, мы со слезами на глазах пали на каменные плиты, целовали камни и поливали их своими горючими слезами…».
Чуть позже у нас был еще один гость, брат Ефима Хисина Осип (Иосиф), приехавший из Москвы и проживший у нас больше года. В нашем доме он женился на моей тёте – тете Ханне. Осип Хисин был совсем другим человеком, уже очень далеким от своего старшего брата. В своей речи, в восприятии жизни, в мыслях, в пении, танцах и выступлениях он был типичным русским, пижоном, а не кацапом. В политическом плане для него ничто не имело значения, даже еврейский вопрос. Самодовольный, вечно веселый. Я держался от него на расстоянии и временами даже избегал. Ефим уехал от нас в Швейцарию, изучал там медицину и, получив диплом врача, вернулся в Израиль, чтобы практиковать там среди еврейской и арабской бедноты. В то же время его младший брат Осип отправился в Москву, где он открыл шелковую фабрику и с помощью своего дяди Генделя Хисина, тогда известного человека и филантропа, добился успеха. Его фабрика работала на всю Россию и Польшу и на этой фабрике он очень разбогател.
Я сразу вспоминаю третьего гостя, который очень долго пробыл в нашем доме. Он сказал, что приходится мне двоюродным братом со стороны моей матери, Шмуэлем Шмураком, и в то же время он был племянником нашего широко известного знакомого рабби Менделя. Поначалу Шмуэль жил в доме своего дяди рабби Менделя в Одессе и прямо из его дома приехал к нам в гости 21-летним юношей. Мендель хотел сделать из него полезного еврея и записал его в профессиональное училище «Труд», в котором был директором. Шмуэль всегда любил похвастаться своим старшим братом и всегда рассказывал истории о доме своего дяди. Но лично его никакие вопросы не интересовали, он говорил только по-русски, одевался как тирский немец. Он также женился на второй сестре моего отца, Рошке. Некоторое время он был учителем в нашем городе. А затем преподавал в Барановичах, оттуда уехал в Варшаву, где стал представителем мануфактур Осипа Хисина по всей Польше. 29
Тем не менее серьезность моего дома почти не мешала мне в играх. У меня было достаточно друзей, с которыми я ходил в лес собирать ягоды, ходил в замок и карабкался там по головокружительным лестницам, ходил на речку купаться и показывать, как далеко я умею плавать. Еще больше мне нравилось сидеть со своими друзья где-нибудь в укромном месте и слушать их истории о демонах, привидениях, духах и… святых евреях.
Дорогие мне детские годы, проведенные в моем штетле Мир, евреи и город, запечатлелись в моем сердце, и эта огромная любовь к моему городу остаётся со мной и по сей день.
Глава 4
Я начинаю читать
Мой отец всю свою жизнь много читал и, если ему что-то очень нравилось, он любил читать это жене и детям. Я до сих пор помню, как мать звала нас в спальню с объявлением: дети приходите к отцу, он почитает: мы шли прямо к нему в спальню. Отец уже лежал в постели, завернувшись в теплое одеяло и держа в руке книгу. Мы тихо входили, садились вокруг его кровати, и литературное образование начиналось. Он читал нам на идише «Черного мальчика» Динезона, «Идиш на Песах» Шацкеса, «Ножик», «Иоселе-Соловей» и «Стемпеню» Шолом-Алейхема. На русском языке он читал нам Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Фруга. Из всех книг наибольшее впечатление на меня произвела «Стемпеню» Шолом-Алейхема, хотя еще мне очень понравился «Нос» Гоголя. 30 31 32 33 34 35 36
Когда мне было десять лет, я уже начал читать самостоятельно. Каждое воскресенье в базарный день приходил русский разносчик со всякими духовными и священными вещами: изображениями святых, иконами, статуэтками, фотографиями, а также сборниками русских светских рассказов и стихов. Моя мама давала мне каждое утро в школу три копейки, я не тратил их на перекусы, а копил все три. За неделю я собирал восемнадцать копеек и каждое воскресенье тратил деньги на буклеты, пока не собрал свою собственную библиотеку буклетов с рассказами. Книг на идише у меня не было, потому что не было таких книг на идише, которые бы подошли мальчику десяти-одиннадцати лет.
Через несколько лет я начал читать более серьезные книги и периодику, как на идише, так и на русском языке. Особо я обращал внимание на русские издания на идише такие как старый «Рассвет», «Восход», «Сион», «День», «Вестник русских евреев» и «Еврейская библиотека». Позже я перешёл к «Дому друзей», «Еврейской народной библиотеке», и «Кол мевасеру» (Голос глашатая). Так я познакомился с произведениями Шолом-Алейхема, Фруга, Бен-Ами, Равницкого и других. В то время я уже прочитал «Дэниэля Деронду» Джорджа Элиота, а также произведения Фрэнцоза, Вассермана, а также книги Леванды. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Вообще мне нравилось читать книги еврейского содержания. А когда я перешел к русской классике, меня очень раздражало, что, когда изображается еврейский типаж, он всегда негативный, по большей части карикатурный, и это сильно охладило мой энтузиазм по поводу создателей и продолжателей русской литературы.
Но наибольший интерес у меня вызывали книги, в которых описаны путешествия, народы и страны. Первым журналом, на который я подписался, был русский «Вокруг Света», который распространялся по всему миру, и с огромным нетерпением я каждую неделю ждал его еженедельных выпусков и каждое первое число – ежемесячных выпусков. Журнал был специально посвящен репортажам о путешествиях и содержал необычайно красивые и яркие изображения всех стран всего мира. Книги я читал со святым упоением и не уставал целыми днями рассматривать иллюстрации. 51
Еще я каждый день с большим удовольствием читал русскую газету «Новости», которую мой отец получал из Петербурга. В то время в России еврейские газеты ещё не издавались. 52
Помню также, что у нас дома были две рукописи, переплетённые как книги, и обе рукописи были на идише, одна с чудесным почерком, – роман о еврейской жизни в Новогрудке, написанный новогрудским нотариусом Иоселевским – отцом моего дяди. В рукописи должно быть было страниц триста. Вторая рукопись – жемчужным почерком Менделе «Сплетня». Я играл с этими книгами и подражал их почерку. Я их часто читал, только не очень хорошо понимал. И еще меньше понимал ценность их культурно-исторического значения. Только когда я узнал, что обе книги сгорели во время великого пожара, уничтожившего наш штетл, я очень разозлился. 53 54
Дома мы говорили на идише, хотя и называли этот язык жаргоном. Мы никогда не стыдились своего идиша и никогда не гордились знанием русского языка. В нашем доме оба языка были равноправными. Для моего отца русский язык был языком средств к существованию. Официальные документы он писал на русском языке, защищал своих клиентов на русском языке, и подавляющее большинство его клиентов были белорусами. Но когда он попадал в домашнюю атмосферу, он никогда не говорил с нами по-русски, а всегда на идише. Также и в чтении в нашем доме были приемлемы оба языка. Идиш в то время был очень беден, идишская литература ещё беднее и, если мы хотели прочитать научную книгу по серьезному вопросу, нам приходилось использовать русский язык и русскую литературу. И именно поэтому я обнаружил, что читаю на русском гораздо больше, чем на идише. На немецком я перечитал в начале несколько книг и все, больше не читал. С Гете, Гейне и другими немецкими писателями я познакомился по переводам на русский язык. 55 56
Глава 5
Великий пожар
Наш штетл часто горел, но прибегали евреи, христиане, татары и своими совместными силами не давали огню распространиться далеко. Раньше сгорали дом или два, и пожар уже потушен. Но когда мне было двенадцать-тринадцать лет, почти весь наш город сгорел, и я хорошо помню этот «великий пожар».
Был летний день. Затем я зашёл к своему дяде Иоселевскому, который, как и мой отец, был юристом. Внезапно зазвонили церковные колокола. Мы поняли, что где-то горит дом. Я сразу побежал к месту, где горело, помогал качать воду и доставлять её к горящим домам. Я бегал от дома к дому и помогал. Тогда мне пришло в голову, что лучше было бы спасти бедные еврейские семьи от их неряшливости и разгильдяйства. Потом я отправился в горящие дома, чтобы спасти мебель и постельное белье внутри. Я трудился так около часа. Потом я услышал, как кто-то сказал, что у холодной синагоги загорелся верх и некому спасти книги Торы. Я сразу побежал в холодную синагогу. Там было несколько евреев, но они боялись войти внутрь. Я вошел в синагогу и услышал позади себя голос: «Мальчик, сначала возьми книги Торы». Я смело пробрался к Ковчегу Завета. В этот момент пришло около шести евреев, и вместе с необычайной быстротой мы спасли все книги Торы. Но огонь становился все сильнее и сильнее. Пламя уже начало охватывать красивые картины на стенах, и от дальнейших спасательных работ пришлось отказаться. Тут меня останавливает какой-то еврей и говорит: 57
– Ты счастливый молодой человек, ты выполнил много мицвот. Чей ты? 58
– Юриста Мышковского.
– Вы только посмотрите, как согревает теплая еврейская душа. Здесь ты ничего не можешь поделать. Ваша крыша тоже горит. Беги прямо домой и спасай там, что сможешь.
Я сразу побежал домой и подумал про себя, что уже получил бы нагоняй от отца и кто его знает, думаю, что случилось с моим щенком, с моей книгой, с лампой, которую отец недавно купил у Фрица.
Я бежал по сгоревшим местам. Повсюду – отчаяние, крики, плач, люди рвут на себе волосы, ломают руки. Повсюду огонь, повсюду разрушения. Бегут евреи с мешками на плечах. Вещи, которые вынесли из домов и оставили на улицах, уже горят.
Я прибегаю к нашему дому. Сначала никого нет. Каким-то образом им удалось убежать! Никаких столов и стульев. Но многое, очень многое осталось в доме. Я быстро приступаю к работе. Сохранить то, что еще можно, и отнести в сад Левина. И я спасал наше достояние до тех пор, пока уже ничего нельзя было спасти, потому что весь дом был охвачен огнем. Я убежал искать своих родителей, братьев и сестер. И мне удалось пробраться только по одной тропе – через реку, то есть по берегу нашей реки. И хотя тропа была слишком длинной, но поэтому же она была и самой безопасной.
Там кто-то мне сообщил радостную новость, что вся моя семья находится в доме нашего судьи Борзова. Мне уже пришлось бежать оттуда к району Падал и от Падала по улицам к дому судьи. По пути я видел картины, которые никогда не сотрутся из моей памяти. Евреи в страхе смерти, в величайшем отчаянии. Свободные места за городом были уставлены столами, скамейками, кроватями, мешками, корзинами, сундуками. Предметы еврейского быта были повсюду. Обширная территория в задней части города захламлена и усеяна еврейским имуществом и товарами, вынесенными только для того, чтобы спасти их от огня. На мешках и сумках сидят евреи. Евреи, которые наблюдают за спасённым. Дети плачут, они все теперь бездомные и все оплакивают великое несчастье.