
Пустыня внемлет Богу. Роман о пророке Моисее
Итро на палубе под зонтом, читает новые строчки Месу:
«За более чем сто метров до обвала воды начинают испытывать беспокойство: торопятся, прыгают, пускают струи в обратном направлении, будто хотят сбежать от неминуемого, бурлят.
Что это? Предчувствие падения?
Предчувствие грандиозности ожидаемой новой жизни?
Выход из такой приятной глазу, но смертельно сковывающей тиши да глади?
Не таково ли предчувствие прорыва к свободе, о которой наши учителя так мечтали в молодости и иногда вспоминают в старости?»
Намек понят. Пользуясь тем, что охрана да и охраняемый спят без задних ног, закинув на плечи края хитона, как взваливают старость на спину, Итро кряхтя спускается в свою каюту и профессионально на пламени светильника сжигает текст, чтоб осторожно развеять его по ветру в утренних сумерках.
4. Волны моря, стирающие второстепенное
Дочь правителя миров, мать Месу, просит Итро срочно явиться к ней.
– Наместник Амона-Ра на земле проявляет нетерпение, – мягко говорит она, – охрана валится с ног. Те, кого посылают охранять Месу, принимают это как наказание. Я его совсем не вижу. Есть ли сдвиги?
«Нетерпение? – размышляет про себя Итро. – Видно, изверг не на шутку рассержен. Меня ведь и вовсе не призывает для советов, хотя положение дел не из лучших. Ну и ввязался же ты в дело, Итро. Сидел бы тихо, тебе же скоро срок отправляться домой, как бы не отправили тебя в другой дом или в другой мир. Охрана устала? Просто ни слова не удалось подслушать? Это же недопустимо, это провал всей системы сыска и фиска. Ай да Месу, дьявол этакий. Мерзких доносчиков только так и можно проучить, комар носа не подточит. До поры до времени».
Вслух говорит:
– Слишком мало времени прошло. Что такое две недели в сравнении с полугодом внезапной немоты? Я ведь не волшебник, но я почти уверен, что смогу его вылечить. Необходимо лишь время и терпение.
– Через неделю праздник с восхождением к пирамиде Хуфу. Хотя бы приведите его. Он же вообще перестал ходить на храмовые службы, не говоря уже о школе.
– Это я обещаю.
«Ты глупее пробки: самого себя обратить в заложники этого неуправляемого юнца, неизвестно почему пораженного косноязычием. Откуда в тебе эта гибельная самоуверенность в том, что ты вылечишь его?» – сокрушается про себя Итро, выходя из покоев дочери повелителя миров и ощущая враждебные взгляды всей этой охраняющей и подслушивающей шушеры: еще бы, чужак, дохлая мышь, а водит за нос вместе с этим принцем, черт его дери, несомненно подкидышем, самого наместника бога Амона-Ра, великого покровителя соглядатаев, доносчиков и телохранителей.
Подлетевшая колесница чуть не сбивает Итро с ног. Рука Месу почти на лету подхватывает его. Ну и силен же этот безумец. Ну и хитер. Иногда Итро кажется, что этот внук повелителя миров разыгрывает всех, ибо ему выгодно быть немым и выделывать черт знает что.
Ветер, обтекающий мчащуюся колесницу, до того горяч, что, кажется, обжигает внутренности при вдохе.
Над страной Кемет свирепствует хамсин. Сквозь пепельный слой пыли, который, по сути, и есть небо, изредка пробивается тлеющий, как головня, красный диск. Пространство подобно сухой, но не вспыхивающей сере, и кажется, мир мертвых выпростался из-под земли и надежно обосновался на поверхности, заменив живой. Печаль и замкнутость окутывает тяжким жаром человека в лежбище дома его. Спасает баня, где жарко, но влажность дает чувство облегчения от раскаленного снаружи воздуха.
После полудня поднимается ветер с моря, и потому Месу гонит колесницу к берегу, к пустынному дворцовому пляжу. Охрана не столь расторопна, тем более что внук повелителя все время меняет направление скачки, несясь по каким-то одному ему известным переулкам и улочкам, благо они пусты: все в домах подыхают от жары.
Охрана же пляжа издалека узнает сумасшедшую колесницу, заранее распахивает ворота.
Колесница с разгону стопорит под огромным, продуваемым ветром с моря пологом. Лошадки жадно пьют воду из бочки. Месу сидит на песке, пьет из бурдюка, удивленно воспринимая молчание всегда говорливого Итро. Его, Месу, конечно же, интересует разговор с матерью. Но Итро, захваченный врасплох всеми событиями этого дня с утра, сидит на песке, тоже пьет из своего бурдюка, палочкой, подвернувшейся под руки, чертит что-то на песке, ухмыляясь про себя: охрана, видно, еще мечется в поисках этого ненавистного ей принца.
Итро говорит:
– Положим, эта палочка – хартом писца. Но для письма не на папирусе, а на песке. Самое главное должно непроизвольно закрепляться в памяти, а затем стираться языком природы – волнами моря.
Внук и сын повелителя миров, иногда следует отбросить ложную скромность, и потому я, всю свою жизнь посвятивший языкам и письменности, говорю: дана тебе незаурядная способность нащупать и осознать внутренние законы возникновения и развития письма. Трудно поверить, но ты в кратчайший срок познал в языках то, к чему я иду всю свою жизнь. Ты свободно владеешь письмом двух великих держав – страны Кемет и страны Двуречья – иероглифами и клинописью.
Отлично помню твои слова, сказанные на одном из моих уроков до того, как поразило тебя тяжкое косноязычие. Ты сказал примерно следующее: «Ощущение такое, что заставленность Дельты, этой лавки древности, породила иероглифическую тесноту, плотность, медленность, неповоротливость письма».
Это было настолько непонятно остальным ученикам, что они просто пропустили мимо ушей. Я же – человек пустыни, у меня особо острый слух, и я знаю, что пустыня требует скорописи.
Но острый слух не менее важен в дворцовых покоях и коридорах, чтобы быть настороже и улавливать любое шевеление вблизи. Каждый раз, оглядываясь, я читаю удивление в твоих глазах. А между тем выражение «стены имеют уши» для царского двора самая обычная и омерзительная реальность.
Наконец появились две колесницы с охранниками. Даже не приблизились, а, спешившись у входа на пляж, пошли в домик к местной охране, отдышаться и напиться воды. Белесые волны огромной высоты, заборы вокруг необъятного пустого пляжа и приказание начальства держаться от ненормального на почтительном расстоянии несколько облегчали их тяжкую службу ничегонеделания.
Месу распряг лошадок, повел их в конюшню, к лошадям охраны, дать им поесть сена, вернулся, долго пил стоя из бурдюка, затем сел на песок вплотную к Итро. Неожиданные уходы и приходы Месу, прерывающие Итро на полуслове, уже не изводили его, как в первые дни: он знал, это вызвано внезапно подкатывающей к горлу юноши горечью и желанием каким-либо действием изменить свое состояние.
– Так, вероятно, угодно небу, – медленно начинает Итро, тоже отпив из бурдюка, – но случай выдался единственный в своем роде: ты обречен какое-то время на молчание, а то, что я говорю, становится достоянием нас обоих. Я и так уже сболтнул лишнее, за которое ни мне, ни тебе не снести головы: мне за сказанное, тебе за то, что слушал и не донес. Потому с момента уединенных наших занятий мы уже повязаны нитью, и на ней подвешены обе наши жизни. Нитку держит в пальцах твой отец и дед. Стоит ему пошевельнуть мизинцем, и нитка оборвется.
Может показаться, что сказанное не имеет никакого отношения ни к твоему косноязычию, сын и внук повелителя миров, ни тем более к языку и письму.
Так вот, знай – самое прямое.
По земным законам у повелителя поднебесной Кемет, вероятно, есть право выбирать подходящую ему правду жизни, по-своему выстраивать историю. Но по законам неба даже ему не дано права искривлять ложью юношескую душу, которая нуждается в истине, как легкие в чистом воздухе.
Официальным и строго охраняемым законом в стране Кемет является иероглифическое письмо и жреческая скоропись на основе тех же иероглифов. Горе тому, кто ставит это под сомнение.
Но мало кто знает, а если бы и знал, поспешил бы забыть об одном заброшенном богами месте на севере, по ту сторону Тростникового моря. Место это я пересекал не раз, пешком и на верблюдах. Иногда даже останавливался на несколько дней по дороге в Мидиан и обратно, в Кемет.
– Что это за место и где оно? – внезапно и нетерпеливо, заикаясь, выдавливает из себя Месу одним выдохом.
От неожиданности не зная, как среагировать, Итро опять припадает к спасительному бурдюку, а в голове мечется: «Неужели и вправду он водит всех за нос? Но ведь заикается, задерживает дыхание, старается выпалить слова на одном дыхании. Все признаки заики, но нет немоты. Просто стесняется при людях рот раскрыть. Ко мне, вероятно, испытывает доверие? Благая весть в этот невыносимо жаркий день. Но мне ведь не привыкать. Я не египтянин, а человек истинной пустыни».
5. Заключенные в копях. Святилище богини Хатхор
– Сын и внук повелителя миров, я незнаком с картой к звездам или дорогой в преисподнюю, в страну мертвых, – начинает Итро, придя в себя, – но живая дорога к моей родине, к Мидиану, начертана в моей памяти навечно.
Итро столь же внезапно и нетерпеливо, как это делает Месу, с непривычной для него горячностью начинает чертить на песке:
– Туда легче всего добраться по воде через самое восточное ответвление Нила во время его разлива, затем – через Горькие озера и дальше по Тростниковому морю. После недели плаванья выходишь ни побережье Мидиана. По суше добираться туда намного труднее. Но мне-то позарез нужно то забытое богами место.
Вот, будь внимателен, мы с тобой находимся в этой точке. Отсюда рукой подать до крепости Чеку на северной границе Кемет. Здесь, южнее малого Горького озера, при сильном ветре воды заливают сушу, по не стоят долго, как в Ниле, отступают на глазах. Прошел эти плоские земли, и сразу – подъем: перед тобой дорога к горе Сеир, почти прямо на восток, самая короткая – две недели ходу до Эцион-Гавера, а там недалеко и Мидиан. Но дорога нелегкая: все время пересекает глубокие сухие русла, которые внезапно могут хлынуть водами дальних южных ливней. Попадешь в поток – костей не соберешь.
В обычное же время – смертельная сушь. Нет оазисов.
Но есть другая дорога, намного длиннее, до Мидиана добираться пять недель, а то и более: пересек те самые плоские земли, заливаемые водами при сильном ветре, и на юг, вернее, на юго-восток, вдоль восточного берега Тростникового моря. Тут часты оазисы: пальмы и источники. Идешь или покачиваешься на верблюде, а по левую руку тебя сопровождают мерцающие в мареве те самые невысокие горы по дороге на Сеир. И вот здесь, примерно после пяти дней ходу, в склонах этих гор видишь копи, напротив которых на берегу гавань. Через нее вывозят добываемые здесь медь и бирюзу.
Потрясает глубокое ущелье, ведущее к тем копям: сверху донизу стоны его исчерканы именами тех, кто здесь проходил испокон веков, тысячи тысяч врезанных в скалы имен.
Не отрывая от этого глаз, не ощущая страшного пекла, в сильнейшем волнении приближаешься к полувырубленному в скале, полувыстроенному небольшому и вовсе не роскошному храму.
Это святилище богини Хатхор, которое возвели добытчики, люди отверженные, обреченные, рабы, узники тюрем, ссыльные. В этот полуденный час от пекла тускнеют добываемые в копях медь и бирюза.
Добытчики ловят глоток прохлады в храме, ставят богине новые алтари, без всякой надежды пишут ей жалобы, упоминая приносимые ей жертвы.
Но каким удивительным письмом…
Возникло оно не так уж давно. Быть может, пару столетий назад, и именно на этих копях – тут нет сомнения. Но кто-то же был первым, кому в голову пришла божественная идея этого письма.
Не свалилась же она с неба. Хотя кто знает?..
Итро долго пьет из бурдюка, краем глаза замечая непривычно сосредоточенный на нем, почти оцепенелый взгляд Месу.
Один из охранников по имени Яхмес, издалека заметив опустошенный бурдюк Итро, несет другой, полный. К удивлению Месу, Итро не стирает начертанное на песке, с благодарностью принимает полный бурдюк от Яхмеса, делает еще пару глотков и продолжает:
– Получаю разрешение от охраны, добираюсь до храма. Не думаю о времени, об еде и питье. Падая с ног, пристаю к добытчикам.
Лихорадочно, отчаянно, почти в безумии, пытаюсь узнать, откуда, как и когда возникло это письмо, кто первым начертал эти знаки. По доброте своей, как все сильные, но отверженные люди, они искренне пытаются мне помочь, но всё зря.
Даже самые старые добытчики, которые зубы искрошили в этих копях, помнят одно: еще их отцы, вечные каторжане этих мест, писали такие знаки.
С другой же стороны, простота этих знаков несет в себе тоску добытчиков по обычной человеческой жизни. Вот эти знаки, гляди: бык – алеф, дом – байт, дверь – далет.
У них ведь ни быка, ни кола, ни двора, ни дома своего, ни верблюда, но вот он – гимель.
Простота простотой – откуда же этот знак, как вздох, выдох самой гортани, начало жизни, само небо, божество – эй? Или вот, ладонь, поднятая к небу, – каф; вода, суть жизни, ее волнообразное течение – мем.
Письмо это – настоящий бунт против официальных державных письменностей. Но творцам этого письма и терять было нечего: ведь самое страшное наказание в любимой всеми нами стране Кемет после смертной казни – ссылка на эти копи или в каменоломни, где в поте лица своего обреченные извлекают огромные сколы гранита для еще одной очередной статуи повелителя миров, твоего отца и деда. И знаешь ли, я думаю: величайшие по простоте идеи могут возникать только в такой отверженной, но лишенной даже капли лицемерия, страха, ханжества среде.
Конечно же, творцы этого письма знали иероглифы, как-то от них отталкивались, но, и это главное, вовсе не испытывали священного трепета перед ними.
– Кто они? – Неожиданно металлические нотки в голосе сына и внука повелителя миров скрывают охватившее его смятение.
– Хабиру, ибрим. Из племени семитов, кочующих на севере до дальних пределов Сирии, – говорит Итро, и от него не укрывается внезапно залившееся потом лицо Месу, до сих пор сухо пылавшее в послеполуденном жаре, несмотря на полог.
6. Письменность, превращающая камень в живое растение и дающая побеги слов
– Ты, который отлично знаешь иероглифическое письмо, поймешь величие нового письма, только благодаря страху и запретам не проникшее в державы Нила или Двуречья.
Медь мы в иероглифическом письме должны пользоваться разными знаками для слов, одинаковых по звучанию, но разных по смыслу. Тут же каждое слово сведено к трем замковым знакам, замыкающим любое выдыхаемое голосовое движение.
Это даже не слово, а его твердый скелет, этакий ноздреватый камень.
Голосовые изменения превращают этот камень в живое растение, дающее побеги слов.
Мот пример наиболее употребляемого гнезда слов у добытчиков меди и бирюзы: шомер – охранник, страж; шмира – и охрана, и талисман, амулет от богини Хатхор; лейл шимурим – ночь бдения той же богине; мишмар – караул и тюрьма; мишмерет – вахта и в то же время заповедь.
Знаки эти легкие, словно бы родились быть начертанными на папирусе, а не врезанными в камень. Когда это осознаешь внутренне, понимаешь: письму этому принадлежит будущее, а иероглифы и клинопись во всем своем блеске и силе внезапно являют свою громоздкость, ту самую замеченную тобой неповоротливость и тесноту письма.
7. Взлет к надежде и падение в бессилье
Месу осторожно берет из рук Итро палочку, стирает все начертанное учителем, проводит кривую – подобие волны со стрелами сил, несущих ее понизу.
Пишет сбоку, что кривая эта открылась ему формулой человеческой жизни, а может, и всей истории, во время их короткого учебного плавания на корабле по морю, явилась для него потрясением, не меньшим, вероятно, чем открытие учителем нового письма.
Это чередование взлета надежды и падения в безнадежность он ощущает в последние дни, пытаясь вникнуть во все сказанное учителем.
Он, Месу, не может дать себе отчета, с чем связано это чувство.
Одно он знает.
Волна на подъеме идет понизу мощным донным током, а на спаде – сильным оттоком: взлет надежды порождает колоссальный выброс энергии вперед, в грядущее.
Падение же порождает бессилие, понижение энергии жизни.
Неужели он сам пришел к этой формуле, или что-то подобное открыто кем-то другим?
Итро, напряженно читающий начертанное Месу, берет из рук его палочку, несколько видоизменяет кривую, стерев окружающие ее записи, нарушает затянувшееся молчание:
Если, миновав Мидиан, продолжать плаванье на восток, там, за морем, много более великим, чем это – перед нами, на гигантской суше живут смуглые люди. Мудрецы их могут останавливать у себя дыхание и даже сердце и вновь возвращаться к жизни, потому что знают секрет энергии, таящейся, подобно свернувшейся в кольцо змее, в нашем теле, в области крестца. Они умеют эту змею разбудить, и тогда, поднявшись к сердцу, к горлу, к голове, она выглядит так.

Рисунок Месу
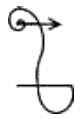
Рисунок Итро
8. Хабиру-ибрим
– Кто они, эти хабиру-ибрим? – говорит Месу, на этот раз сильно заикаясь, но не от косноязычия, а от отвращения к мерзкому чувству, въевшемуся в него, как и во всех представителей высшего света страны Кемет, – презрительному отношению к чужакам, плененным, пришедшим, просочившимся из-за кордона, осевшим и даже преуспевшим, но всегда чуждым и презираемым, если не открыто, так тайно.
– Об этом семитском племени можно говорить весьма приблизительно. История их обросла массой баек. Их рассказывают в оазисах и постоялых дворах вдоль дорог в северных пустынях.
Само это уже говорит об их необычности.
В кочевье они чувствуют себя как дома, дорожат внутренней духовной свободой, которая возможна только в пустыне, один на один с пространством, небом, одиночеством, легкостью духовного бытия, но и с трудностями бесконечного кочевья.
Они храбры, иногда до безумия, потому часто становятся воинами. Но та самая внутренняя свобода ведет их в морские пираты и дорожные разбойники.
Можешь себе представить, что с ними происходит, когда они попадают в страну Кемет, то ли как пленные рабы, то ли как бегущие от голода? Их ссылают на самые тяжкие однообразные работы: в копи, в каменоломни. Страна Кемет, огромная, богатая, роскошная, притягивает их и отталкивает одновременно. Они привыкли в кочевье к жизни простой и жесткой, и потому им отвратительны потрясающие огромностью и роскошью дворцы и храмы. Им нельзя этого простить, но понять их можно.
– Выходит, они не любят м-моего отца и д-деда? – в заиканье Месу опять ощутима властная металлическая нотка.
– А за что им его любить? Он считает их низшими созданиями на уровне скота, он привел к тому, что молодые хабиру в отличие от храбрых предков превратились в трусливые существа. Прости меня, но повелитель миров, мягко говоря, психически неуравновешен. Когда им овладевает мания преследования, он прислушивается к советам самых глупых и потому злобных своих жрецов. И этот сентиментальный любитель животных дает время от времени указание топить еврейских младенцев.
– Это пра-а-вд-да? – дрожа всем телом, говорит Месу.
– Взгляни на стражника, который принес мне бурдюк с водой. Зовут его Яхмес. Это храбрый воин, который видит во мне своего исповедника, предан мне душой и телом. Так вот, он из младенцев-хабиру, которых отобрали у обезумевших матерей. На самом деле, – продолжает Итро, – большинство из них не бросили в Нил, а тайно увезли в дальние храмы, сменили имена и воспитали из них верных псов правителя – не только храбрых воинов, но и изощренных доносчиков.
Некоторых из них эта тяжкая внутренняя раздвоенность привела к душевным болезням. Вот почему Яхмес обратился ко мне. Ведь он приставлен следить за мной. И только на честность его я и могу полагаться. Знаешь, чего ему это стоит!
Ведь это твой отец и дед, которого он боготворит, велел ему неукоснительно следить за мной. Твой отец и дед заставил меня покинуть семью и детей. Да, он великодушен, позволяет нам в Мидиане растить верблюдов и овец, смотрит сквозь пальцы на то, что мы сдираем налог с караванов, идущих с севера в Кемет, хотя это открытый грабеж. Но упаси меня бог богов Амон-Ра перечить ему или попасться на язык гниды-доносчика. Это конец.
Месу вскакивает, убегает к своим лошаденкам и колеснице в конюшню.
Серое небо почти волочится по песку и волнам.
Встревоженный Итро выпивает и второй бурдюк. А Месу все нет. Беспомощно смотрит он на бегущего к нему Яхмеса.
– Этот ненормальный ускакал неизвестно куда, – задыхаясь от бега, говорит Яхмес, – за ним два охранника на колеснице. Я вас подвезу, учитель. Идти пешком в такое пекло и в такую даль – отдадите богу душу.
9. Миф – вечный мавзолей
Вот уже неделю длится жестокий хамсин. Заброшенный в своих четырех стенах, Итро никуда не выходит. Дворцовый служка приносит ему питье и еду. Испуганный взгляд этого существа не предвещает ничего хорошего. Никто не вызывает Итро во дворец. В школе каникулы. Даже Яхмес не появляется. Не предал ли он Яхмеса, выдав его тайну Месу?
Итро плохо спит по ночам, ожидая стука в дверь, почти уверенный, что за ним должны прийти. Они же только по ночам работают, эти мерзавцы: человек, вырванный из сна, захваченный врасплох, доставляет им высшее наслаждение от сделанной работы.
Может, вся эта история с Месу с самого начала задумана неутомимым извергом, чтобы рассчитаться с Итро: слишком часто этот повелитель мира, блуждающий в потемках, нуждался в его советах – такое не прощают и более мелкие палачи. Но что Месу, этот гениальный мальчик, тоже его пособник? Если это так, то рухнули последние столбы, на которых держался мир Итро. После этого стоит ли вообще жить?
И тут, очень кстати, является Яхмес. Командир и вправду запретил ему видеться с Итро, но сегодня приказал проведать. «Надо же, – думает Итро, – какой-то плешивый главарь доносчиков и тоже мне – командир».
Между тем Яхмес рассказывает, что впервые после многих недель Месу на днях вышел к матери на крышу дворца. Более того, он поджидал Яхмеса в темном коридоре, просил передать Итро эту трубочку папируса.
«Вот хитрец. Это ведь плата той же монетой за то, что не стер с песка знаки, когда Яхмес принес мне воду», – думает Итро, разворачивая папирус. Оказывается, на нем записано главное, что этот молодой человек запомнил из слов его, Итро, о пирамидах.
«Завтра торжественное шествие к дому Хуфу, и я обещал матери участвовать в нем. Она счастлива. Я еще сильно заикаюсь, но хотя бы перестал стесняться открывать рот, несмотря на хихиканье за моей спиной.
От матери я узнал, что вы обещали меня вылечить. Мне-то вы об этом не сказали. Ну да ладно…
Но вылечить? Не слишком ли это самонадеянно с вашей стороны, уважаемый учитель?»
Каков гусь, какой тон, но ведь прав. Ну не дура ли, мамаша его? Сказать ему о том, что должно было быть нашей общей с ней и с извергом тайной.
У меня с ним общая тайна. С ума сойти.
«Перед завтрашним шествием я решил припомнить, хотя бы частично, то, что вы говорили мне о пирамидах. Это всего лишь еще одно упражнение на запоминание».
По-моему, прямая угроза. Мол, следующий шаг может быть упражнением на доносительство, не говоря уже об упражнении в стрельбе из лука с колесницы по оставленным без помощи старикам или всяким там чужеземцам.
Остановись, Итро. Умерь фантазию. Посмотрим, что же он там запомнил.
«…Многие годы я пребываю здесь советником при повелителе миров, редко отлучаясь на далекую мою родину, в Мидиан, проведать семью, дороже которой для меня никого на свете нет».
Это я так говорил? Твоими устами, юнец, мед бы пить, да они источают яд. Как же я так оплошал: собирался лечить его, а сам раскис. И слова-то какие: как будто я молю этих истязателей в пыточной камере о снисхождении.
«Но по сей день потрясают меня эти пирамиды. Кажется, они растут от самого основания мира. Колышутся буями вечности в водах времени. Время это вблизи пирамид кажется скоплением мировой усталости. Гигантизм поражает душу, но с ним можно постепенно свыкнуться. Время же искрошило свои зубы об эти пирамиды, но оставило лишь следы укусов. В конце концов оно смирилось с Невероятным упорством этих каменных чудищ».
Боги милосердные, неужели это я говорил так красиво? Язык отрубить мало.
«Стою у пирамид, думаю: вот осязаемые на ощупь каменные громады. Представляют они призрачный и потому мучающий своей таинственностью и абсолютным отсутствием мир, хотя на стенах этих лабиринтов мы видим самые обычные сцены земной жизни – утренний туалет, выпечку хлеба или строительство здания.
Что осталось от того мира? Всего несколько звуков, уже странных для живого уха, – имена погребенных здесь властителей: Хуфу, Хафра, Менкаура…