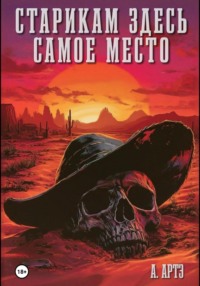
Старикам здесь самое место
– Я скоро приеду, мистер Эбигейл.
– Что? – отозвалась мать, развернувшись на козлах, но продолжая держать поводья в грубых тощих руках.
Они уже пять минут как проехали усадьбу и выбрались на неровную грунтовую дорогу, а мальчик и не заметил, как начал грезить вслух.
– Ничего, – насуплено сказал он.
– Я тебе тысячу раз говорила: не смотри на тот дом! Это дом плохого человека!
– Что в нем плохого?
– Он использует труд этих несчастных людей, привезенных сюда из-за океана. Он их принуждает. Силой.
– Я не заметил, что они несчастливы.
– А они такие. Он их угнетает. Он считает их своей собственностью.
– Если он их угнетает, почему же они не восстанут и не убьют его? Их же больше.
– Они не могут.
– Значит их устраивает.
– Знаешь, что, сынок? Мистер Эбигейл – рабовладелец. Это грешный человек, развязный. Он далек от Бога. Мы не такие. И не будем больше на эту тему.
– Зато мы близки.
– Мы близки. И нам зачтется это!
– На том свете.
– Все верно. Мы скромные верующие люди. Я провожу в молитвах по несколько часов, твой отец помогает нуждающимся, а брат – и вовсе будущий пастырь. Мы заслуживаем божью благодать. Мы у Бога будем первыми.
– А на земле последними, – еле слышно проворчал мальчик.
– Ленард Эдвард Прайс! Заткнись! И не смей мне перечить! Иначе больше никогда не поедешь со мной в город!
Хэлен Прайс знала, как заставить Ленарда замолчать. Она отвернулась от непутевого младшего сына и продолжила погонять единственную лошадь, тащившую их с сыном в город, где уже какое-то время при церкви жил четырнадцатилетний Бенджамин. Любимый сын, надежда семьи.
Ленард нахмурился, скрестил руки и раскинул ноги, расположившись, среди уложенной мешковины и деревянных дуг, которые при необходимости превращали повозку в фургон, на котором его родители добрались в эти места с восточного побережья. Кажется, из Бостона, где мать, дочь священника, прониклась идеями аболиционизма и непонятным сочувствием к чернокожим рабам. Тема эта никогда его не волновала, да и сейчас, разглядывая порванный шнурок ботинка, Ленард думал о том, что совсем не любит своих родителей. Он уважал отца, но грубую ограниченную мать и глупого старшего брата едва мог терпеть и с огромным трудом мирился со своим положением младшего члена семьи.
Тема религии и Бога была в их доме главной, разговоры о праведной жизни и всепрощении были обязательным фоном к реальности. Но мать могла впасть в ярость от любого пустяка и отстегать младшего сына розгами, а старший брат довольно ухмылялся, смотря на это. Он умышленно мог разбить тарелку или чашку и свалить все на младшего брата, которому неизменно попадало. Понять, зачем это нужно было Бенджамину, Ленард не мог, да и не особенно хотел. Он обнаружил в себе черное чувство злорадства в тот момент, когда узнал, что Бенджамина изнасиловал отец Стефан. Мать тогда рыдала весь вечер, отец уехал разбираться со святым отцом и в итоге убил его, а Бенджамин достал пыльную бутылку из погреба и познакомился с виски.
Ядро со свистом нырнуло в окоп и врезалось в грунтовую стену всего в пяти футах от ног новобранца. В первый раз так близко. Парень встрепенулся, неловко вскочил и побежал, смахивая с себя комья земли.
II. Койл
Сквозь грязные стекла маленьких окон в кабинет проникал слабый свет. С утренней неохотой он подсветил золотую жидкость – недопитую каплю на дне заляпанного стакана. Шоколадные стружки табака свалились к сгибу вчерашней газеты: вчера их рассматривали в большую сколотую лупу вместе с патроном 44-го калибра.
Наконец, косые, рассветные лучи предсказуемо выстрелили из-за рамы окна и угодили туда, где еще пару минут назад лежала голова, а сейчас покоился наскоро скатанный матрац с подушкой внутри. Мужчина довольно откашлялся и поднялся на ноги, чтобы спустя два шага плюхнуться в старое скрипучее кресло. Пространство снова наполнила рассветная тишина – давний друг. Шериф Койл положил ноги на стол, достал папиросу, медленно поднес к ней огонь и со вздохом опалил.
Шериф любил курить не спеша, со смаком, любуясь, как дым элегантно завивается вокруг полосок света, проходит сквозь них, ломается, облаком собирается у потолка. Тогда Койл закладывал руки за голову и удовлетворенно всматривался в дымную взвесь. Толстые пальцы сцеплялись в замок, а Маркус Койл осознавал, что, пожалуй, все в порядке. Целый округ, который представлял собой квадрат со стороной, равной 90 милям, был в его власти. Номинальной, но все же. Он, Койл, не президент, не губернатор и даже не федеральный маршал. Он – шериф, у которого под контролем три небольших городка в самом сердце Техаса. Каждые понедельник, среду и пятницу он привычно заезжал в каждый из них, остальное же время проводил в своей крепости на одном из холмов Парадайза. Именно здесь шериф чувствовал себя дома, спал прямо в кабинете и ни в чем не нуждался.
Сегодня Койлу хватило пяти часов, чтобы выспаться и очень соскучиться по табаку. Вдох горького дыма получился особенно сладостным. Первая папироса. Следующая уже не будет такой, даже в сочетании с кофе. Обеденная сигара чуть всколыхнет чувства, вечерняя трубка аристократично проводит еще один день – спокойный, томительный, долгий. Завтра будет такой же. А за ним еще и еще – совсем как шпалы в бесконечном полотне железной дороги, которую, получая по несколько центов в день, строили китайцы, которых, в свою очередь, «строил» отец Маркуса. Надо бы к нему заехать – проведать старика.
Густой горячий воздух вдоль путей и запах угля в детстве, затем – холодный пот бестолковой войны с кровавыми пятнами перед глазами, и наконец – блеск шестиконечной звезды шерифа на груди. Заслужил, пожалуй. Послушный сын, верный солдат и уставший хранитель закона – хранитель, который со временем, к своему удивлению, перестал различать яркие цвета. Черное и белое приобрело бесконечное множество оттенков цвета пепла. А шериф то стряхивал, то сдувал этот пепел, оживляя огонек, пожирающий белую бумагу.
«Раньше как хорошо было – все понятно!» Мысль прорвалась откуда-то издалека и встревожила спокойный рассудок. Иногда такое происходило, и Койл ни с того ни с сего начинал нервничать и отгонять озарение как назойливую муху. Если усилий одного лишь разума было недостаточно, он вполне мог подключить речь и начать разговаривать сам с собой. Если не помогало и это, то Койл начинал расхаживать туда-сюда и трогать ребристую рукоять своего «смит-и-вессона». Плохая привычка: люди вокруг беспокоились.
– Чертов табак! – Папироса дотлела до пальцев и обожгла их. Койл отшвырнул ее. Бросил взгляд на газету и заметил дату:
1883, май, 6-е.
«Как стар я стал».
Шериф отвернулся и посмотрел в окно. Солнце вставало вот уже столько лет подряд. Всегда с востока приходил свет.
«Неизменно. Вот бы и мне так».
Муха сожаления села на лоб, и шериф начал припоминать, что лучи по-настоящему грели только в детстве. В юности они начали обжигать. На войне молодой сержант Маркус Койл видел, как за мгновение ломалась жизнь. Чуть медленнее, но так же неумолимо, один за одним, сыпались идеалы, рвались кровавые тряпки, присваивались звания. А руки воровали, а ноги бежали в другую сторону. Генералы врали, вдохновляли, посылали на смерть. Во имя долга, свободы, равенства и прочих материй, которые не имеют вкуса, запаха и цвета. Долг не съесть за обедом, свободу не выпить, равенство не выкурить. Но, как по уложенным отцом рельсам, Маркус ехал и ехал вместе с этим грузом вперед. Он старался не оглядываться по сторонам, но, замечая, что кто-то другой смог изменить путь и скинуть балласт, до хруста стискивал челюсти. Непонимание с возрастом сменилось злостью, сопровождаемой чуть заметным уколом в сердце: инъекцией зависти. А товарный поезд войны всё так же ехал на старой тяге и трясся, словно его грабили на ходу. Стоп-кран, который давно заклинило, не опускался, и оставалось лишь краем глаза смотреть вслед уносящимся с добычей налетчикам. В мыслях Маркус убегал вместе с ними – но на самом деле упрямо ехал по рельсам дальше, продолжая себя уговаривать, что все делает правильно, даже в те моменты, когда понимал, что всё совсем не так.
Койл повернулся к солнцу спиной, и щурясь от дыма, пальнул взглядом прямо в середину картонной доски с черно-белыми портретами на ней. Люди на портретах как-то странно улыбались – уголками губ вниз. Мазки туши смело и резко легли на коричневую, словно побывавшую в кофе бумагу, создав почти неотличимые друг от друга силуэты. Художник один, шляпы разные. Люди в этих шляпах, похожие друг на друга как братья, выстроились в шеренгу и ухмылялись. Каждый своим голосом произносил свое имя, озвучивал цену, а потом вскидывал брови к надписи WANTED.
Шериф снял ноги со столешницы и, кряхтя, приподнялся из-за стола. Щурясь то ли от солнца, то ли от дыма, он начал свое привычное движение вдоль картинной галереи подонков разных мастей и разной степени ценности. Кто-то из разыскиваемых был обычным оступившимся подростком: сначала украл курицу и напился в салуне, потом подрался, нагрубил служителю закона, стал прятаться, угнал лошадь, ограбил человека – и теперь скрывается, отчаянно думая, как бы разорвать этот замкнутый круг, в который он когда-то попал просто потому, что был голоден. Таких немного. Но у них есть шанс вернуться в нормальную жизнь. Их сразу видно, как, впрочем, и отъявленных негодяев. Эти ждать не готовы. Вся их жизнь – насилие. Они убивают, потому что им так нравится, и силой отбирают у слабых то, что им нужно. Их не изменить, в них вшита преступность. Как патроны в барабане, грехи по очереди выводятся в ствол. Бесконечный боезапас – и ни капли сожаления. Жестокий садист убежден в силе, верит в нее, как старая прихожанка во Второе пришествие. А может, и не верит – просто живет честно.
«Вероятно, так оно и есть. Но слово «честно» всё-таки не очень подходит. – Шериф попытался подобрать более подходящее выражение и даже перестал ходить по кабинету. – Если бы не искусственные традиции, обычаи, культура и мораль, мы бы уподобились бандитам и убивали бы друг друга. Эти ублюдки просто сильнее… но не потому, что умнее, а потому, что оказались не готовы к обману, в который большинство из людей поверило. Голого человека обернули плотным одеялом морали, скрыв его наготу и жестокое дикое естество, продлив тем самым жизнь для многих его сородичей. Но нужна ли такая жизнь им самим? Да – для популяции. Нет – для особи.
Первых гнетет случайность, и они просто жертвы неудачных обстоятельств. Вторые просто бегут за своими инстинктами, не видя ничего вокруг. Но есть ещё и третьи. Их совсем мало. Тех, которые однажды устали. Они научились управлять своими желаниями ради отложенной, но масштабной цели. Когда у кого-то из третьих начинает получаться и он чувствует власть, то он может стать великим. Большие политики – все оттуда, из «третьих». В розыск такие не попадают: они и так на виду. Их все знают: боятся или уважают – неважно. Они берут то, что им отдают добровольно. Последовательно переходят от мизерного к огромному. Набегавшись в молодости под пулями, иногда даже посидев в тюрьме, они рвутся топтать лакированными штиблетами мягкие ковры во дворцах, поднимать хрустальные бокалы. Легализация преступного замысла. Болото из крови, впору ходить в рыбацких сапогах и стараться не черпнуть голенищем прошлого».
В очередной раз шериф все расставил по местам, полюбовался собственной блестящей логикой – и снова расстроился. Наблюдатель, надзиратель, судья, наделенный придуманной обществом властью, он противился тому, чтобы ингредиенты смешивались, и, кажется, даже признался себе, что поделать уже ничего нельзя. Еще больше его бесила мысль, что такой жижей жизнь была всегда.
– Сэр, доброе утро, сэр!
– Да! – немного рассеянно отозвался шериф, оборачиваясь на голос.
– Там это, кажется, что, э-э-э, кое-что произошло! – Голос принадлежал тщедушному человечку
– Хиггинс, сколько раз повторять? Коротко и по делу!
– Подстрелили Ленарда Прайса. Он жив, сейчас у врача. Похоже, снова похитители скота, – четко и без запинки отрапортовал сержант Хиггинс. Он даже приосанился и стал похож на подростка в полицейской форме.
– Снова чертовы конокрады, – произнес шериф (И снова чертов Прайс…). – Подробнее, сержант!
– Кажется, Прайс сидел в засаде, сэр! И похоже, что не один.
– (Жаль, что не один. Чертов Прайс…) А с кем?
– Говорит, что не мое собачье дело, сэр, – снова гордо отчеканил Хиггинс.
– Ну, пойдем поинтересуемся у мистера Прайса, чье же это собачье дело. Где он? У Кина?
– Был там пару минут назад, просил не беспокоить.
– Обойдется, – спокойно произнес шериф (Ах, не беспокоить этого сукиного сына?!).
Сердито сдёрнув с крюка шляпу, шериф потушил папиросу и подтянул было пояс как можно выше, но штаны снова съехали на прежние позиции. Койл раздосадовано покачал головой, поправил померкшую, в разводах и ссадинах, звезду на груди и шагнул к выходу.
– Что встал, сержант? Так и будешь здесь торчать и ни хрена не делать?
Хиггинс засеменил вслед за уверенно идущим начальником. Даже такой звезды у него не было. Он ее, может, и хотел, но очень боялся ее силы.
***– Кин! – громко позвал шериф. – Это Койл.
– Да, шериф, проходите! – донесся из дальней комнаты любезный голос местного спасителя, бывшего военного врача, а ныне местного доктора Эйдена Кина.
Шериф встал в дверном проеме и оглядел помещение, в которое местные, залетные, а пару раз и сам блюститель закона попадали в качестве пациентов. С последнего раза ничего в комнате не изменилось: всё те же придвинутые к стене два больших стола с причудливыми изуверскими инструментами (казалось, они попали сюда прямиком из средневековой Европы, из инквизиторской комнаты для допросов), полочки с аккуратно расставленными банками, бутылками и колбами всех форм и размеров. При входе справа стоял диван, миссии которого в кабинете Кина никто не знал. То ли диван предназначался для сострадающих, то ли для впечатлительных, то ли сам доктор после напряженной работы спал на нём, не поднимаясь в спальню.
Сейчас доктор Кин восседал на стуле без спинки, а рядом на кровати полусидел-полулежал Ленард Прайс.
– Джентльмены! – поприветствовал обоих шериф. – Что случилось?
– Шериф, ты же знаешь, есть люди, которым я не особо нравлюсь. – Ленард подмигнул и скривил рот в неприятной улыбке.
– Ближе к делу, – пытаясь сохранять спокойствие, процедил Койл.
– Коротко и по делу! – требовательно продекларировал стоящий за спиной шерифа сержант Хиггинс.
Раздался общий смешок, даже шериф на секунду вздернул уголки губ вверх, но сразу же их опустил. Власть не должна вызывать даже ухмылку, и Койл, прекрасно это понимавший, насупился.
– Джентльмены, по вашему настроению не скажешь, что здесь кого-то подстрелили. Может, пройдем все вместе в участок и все обстоятельно выясним?
Доктор и пациент ничуть не испугались, но стали серьезнее. Убедившись в этом, Койл окинул комнату опытным внимательным взглядом.
– Шериф, я просто не боюсь свинца и крови, – опять отшутился Ленард.
Койл внимательно посмотрел на доказательства: испачканные, скомканные тряпки валялись на столике, стоящем рядом с медицинской чудо-кроватью, в фаянсовой пиале блестел снаряд, в стакане со спиртом отмокал пинцет, а на плече шутника красовалась свежая повязка.
Чёртов Прайс. Ничто его не берет. Столько раз был на волосок от смерти. Потом встал на этот волосок как канатоходец и начал балансировать. Непринужденно так, игриво даже. Вечно эта надменная рожа. А ведь когда-то был другим….
Мысли снова повели Койла не туда, и он с силой, как прежде уголки губ, вернул их обратно.
Ленард Прайс, раненый, но оставшийся в живых и из-за этого несколько возбужденный, с любопытством, но без трепета смотрел на пузатого пожилого шерифа, с которым они были ровесниками. Койл, правда, выглядел десятка на полтора лет старше: напитанные влагой мешки под глазами, капиллярные сеточки на щеках, талия, которую хотелось опоясать металлическим обручем от бочки. Он возвышался над раненым, как водонапорная башня. Но страха при этом не вызывал и явно сердился из-за того, что фальшивый пиетет Прайса чувствует не только он.
Доктор Кин молчал, спокойно, как это свойственно людям его профессии, наблюдая за ситуацией. Взгляд его то и дело останавливался, будто доктора занимали мысли, совершенно несовместимые с происходящим в его же кабинете. Его растрепанный вид вопросов не вызывал, а точнее, перестал вызывать уже несколько месяцев. Хотя обычно он был другим. Гладко выбритый, с идеальным пробором, с четким, не колючим взглядом, доктор выглядел эталоном мужской красоты, на которого заглядывались женщины, словно он не человек, а флакон с французскими духами, фигуристый, нарядный, желанный.
Таким Кин был всю жизнь. Глядя на него, можно было с лёгкостью предположить, что женским вниманием доктор окутан как пьянящим опиумным туманом, из которого по собственной воле никто не выбирается. Но счастливчик в женщинах не нуждался. Жизнь любит сатирические контрасты, несмотря на свою скучную серость. Красавчик с глубокими глазами, похититель сердец, а точнее, хирург, уставший вытаскивать стрелы Купидона из каждой женской груди, был пресным однолюбом. Скучным, но счастливым, женатым на той, без которой жизни своей не представлял.
Взгляд Кина снова завяз в пространстве. Доктор словно проваливался куда-то – туда, где эта самая жизнь была жива.,
«Порядок снаружи – порядок внутри»: эта фраза, написанная на табличке рядом с рабочим столом Кина, сегодня выглядела жестокой насмешкой. Бардак в кабинете можно было назвать рабочим беспорядком, если бы там кто-то работал, а не беспробудно пил – до момента, пока этиловый спирт не выключит сознание и не избавит от реальности, которая неотвратимо возвращалась каждое утро.
«Сегодня» для доктора наступило значительно раньше, чем планировалось. Судя по всему, он даже не успел умыться: красные заспанные глаза, наспех зализанные волосы, лицо серое – то ли от отросшей за ночь щетины, то ли от похмелья, – халат, застегнутый не на все пуговицы… И даже бабочка, всегда сидевшая на шее Кина строго горизонтально, сейчас выглядела ушедшей в пике. Ум доктора перестал быть спокойным, обаяние сменилось на нелюдимость, душа, светлая и полная любви, перестала получать тепло, потеряла высоту, скукожилась до размера пули и застряла где-то между легким и сердцем.
– Что скажете, доктор Кин?
Шериф сделал несколько шагов по кабинету, чтобы отогнать ненужные мысли.
– Действительно, не боится, – подтвердил врач.
Лучше бы ничего не говорил. Ответ рассердил шерифа, и он окончательно решил не затягивать дело: соблюсти условности и оставить эту парочку вдвоем – пусть делают что хотят. В протокольном журнале сделать пометку о месте/времени и перевернуть страницу. Хотя, признаться честно, с куда большим удовольствием Койл зафиксировал бы обстоятельства кончины Прайса, а не покушения на его жизнь.
– Итак, мистер Прайс, где вас так удачно подстрелили, что оставили в живых?
– Шериф, вы не очень-то дружелюбны.
– Отвечайте на вопрос.
– Это было у углового дома на западной стороне.
– Во сколько это произошло?
– Полагаю, что где-то около четырёх утра.
– Какого черта вы делали там в четыре утра?
– Я сидел в засаде.
– В засаде? На кого?
– Видите ли, шериф, когда официальная власть не желает замечать постоянных краж скота, я взял на себя ответственность за решение этого вопроса.
Водонапорная башня угрожающе накренилась и чуть не рухнула на диверсанта, подпилившего ей одну из опор. Шериф Койл покраснел. Конечно же, он знал о том, что в округе регулярно пропадает скот, причем если раньше преступники занимались этим в окрестностях – грабили пастухов, отбивали стадо, воровали на отдаленных фермах, – то сейчас кражи происходили прямо в городе, дерзкие, наглые. Время, что ли, такое наступило? Бессовестное? Зачастую небольшое поголовье коров и пара лошадей – это все, что есть у среднего жителя Техаса. Это его настоящее, это его будущее. Это и ужин на столе, и завтрак следующим утром. А что за человек без верного коня? Слабый, медленный, обозленный, потом, скорее всего, пьяный, затем бедный, дальше, вероятно, беззаконный, а там и до могилы недалеко. Это если уж совсем не повезло.
Но шериф не мог поймать похитителей. Из помощников у него осталось всего-то четыре человека, и один из этих четырёх был ранен при попытке задержать тих самых воров, а второй – старик-охранник, который должен следить за заключенными, но вместо этого обычно спит прямо за столом. Возраст взял свое, и опытный вояка, прошедший американо-мексиканскую, а затем и гражданскую войны, превратился в часть интерьера тюрьмы при офисе шерифа. Заключенные дразнили его «Микки-закладка» – из-за того, что старик засыпал, уронив голову прямо на открытую страницу тюремного журнала, и чернила отпечатывались у него на щеке и белых усах. Что примечательно, в дежурство Микки-закладки еще никто не убегал: наверное, просто не могли – то ли от смеха, то ли из жалости.
Третий был, наоборот, слишком юн. Всего пятнадцать. Ненадежен в силу возраста. Билл недавно попробовал алкоголь и теперь по ночам только и делал, что пил. Говорят, часто бывает в салуне у Прайса, кичится там работой у шерифа, а когда совсем накидается, начинает угрожать посетителям кандалами, решеткой и окружной тюрьмой. Все пока терпят. Непростой парень. Сирота. Около года назад шериф нашел Билла на заброшенной ферме, где тот жил, промышляя мелким воровством. Худой мальчишка в слишком больших для него ботинках попытался убежать, но лассо оказалось быстрее. Уже затягивая веревку, шериф взглянул в наивные голубые глаза парня и понял, что даст ему шанс. Отмыл, накормил, дал кров. Первое время Билл жил в участке и спал на шконке одной из камер, дружил с Микки и на удивление метко стрелял, за что получил прозвище Билл-Буллет. Со временем от чумазого испуганного беспризорника остались лишь воспоминания, и он негласно стал помощником шерифа. Смышленый парень был единственным проводником к поколению, которого шериф не понимал и побаивался. Талантливые, ловкие молодые люди выметали стариков из их затхлых бизнесов, лишали доходов, иногда и жизней. Слухи, которые приносил Билл, давали власти преимущество. Зарвавшихся юнцов шериф ловил, как грызунов в мышеловки. После одного из дел он приобнял помощника, испытал странное чувство гордости, потрепал парня по волосам и назвал сыном. В шутку, конечно. Но Койл испугался, потому что в глубине души знал, что не шутил. А еще потому, что Билл, такой благодарный и близкий сейчас, когда-нибудь непременно выметет прочь самого шерифа. А бездетный старик, так и не поймет, что произошло, и умрет от разочарования.
Ну, а четвертым был Хиггинс по прозвищу Спичка. Он все еще стоял чуть позади и сбоку, не отступая от шерифа ни на шаг, словно его держали на поводке. Никто не знал, чего хотел Хиггинс от службы у шерифа: то ли спрятаться от проблем, то ли выучить каждое движение шефа, чтобы потом самому стать таким же. Трусливый, глупый человек с большими амбициями. Койлу Хиггинс не нравился. Впрочем, он отдавал себе отчет в том, что скорее всего, относится к помощнику предвзято. Некрасивых легко не любить. Но нескладный конопатый Хиггинс ни разу его не подводил, хотя иногда ставил в неловкое положение. Но всегда четко исполнял приказы. А такие люди всегда нужны. Не все же могут, как Билл, пить ночь напролет, а затем попасть из револьвера в горлышко бутылки с тридцати шагов. Необходимы и те, кто выполняют инструкции, не задавая вопросов: молча идут и делают. Без таланта, по бумаге. До тех пор, пока не упрутся в тупик, как вагонетка с углем. Снова рельсы, снова та же аналогия…
Шериф неохотно признавал, что, пожалуй, у них с Хиггинсом много общего. Двадцать пять лет назад в окопе сидел и трясся от страха, новоназначенный сержант Койл, такой же высокий, рыжий, худой…
– Вы были один? – вернулся к разговору шериф.
– Я был один, – лениво ответил Ленард.
– Это неправда! – почти вскрикнул Хиггинс. – Вас было двое!
Ленард удивленно посмотрел на рыжего человечка, который вдруг выпрыгнул из-за спины шерифа.
Шериф даже облизнулся. «Попался, Прайс! Хилый и бестолковый Хиггинс только что прижал к стенке негодяя, теперь не упустить».
– Вам показалось, уважаемый мистер… как вас?
Ленард откинулся на кровати и смерил помощника шерифа пренебрежительным взглядом. Нужно было спасать положение.
– Нет, не показалось! Я без труда вас узнал, ваш плащ виден за милю! И голос ваш мне знаком! Единственное, что мне неизвестно, – кто такой Джонни и почему вы его скрываете! Но я представитель власти, и рано или поздно…
– Вы бредите, милый юноша! Я не знаю никакого Джонни, – как от насекомого, отмахнулся от Хиггинса Прайс.
– Я слышал выстрел, затем ваш голос, сэр, – упорствовал тот. – Вы внятно прокричали: «Джонни, не дай им уйти! В погоню!»