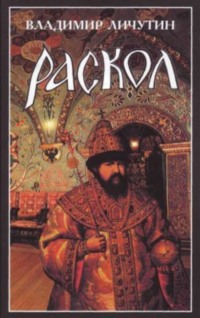
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
И посейчас миллионы русских живут этим чувством, а тогда, триста лет назад, им жили практически все. Ведь золотой век русской святости был еще так близок и внятен. И этот золотой век – не выдумка. Тому, кто тужится припечатать его «стебным» словечком «миф», нужно просто показать «Троицу» Андрея Рублева и икону Владимирской Божией Матери. Покров на Нерли и Спас на Нередице, Георгиевские соборы в Юрьеве Польском и Старой Ладоге. И пусть из всех богатств мира пересмешник назовет хоть что-нибудь сопоставимое.
По поводу «национальных образов мира» за рубежом в ходу шутка: «Немцы маршируют, англичане осваивают моря, итальянцы едят макароны, а русские целуют землю».
Не укрылась, стало быть, от чужеземцев наша особенность, выросшая из наших безмерных пространств. Ведь пройти русскую землю из конца в конец – что переплыть все океаны вместе взятые. Дух земли, стихия земли, мать-сыра земля... Потому и приняла Русь в свое лоно с такой радостью Православие, что родное воссоединилось с родным – мать-сыра земля облеклась в покров Богоматери. И Христос стал исхаживать русскую землю – благословляя («Всю тебя , земля родная...» – по Тютчеву). И земля окропилась, освятилась – им. Он будто сошел с неба в земную, земляную крестьянскую русскую жизнь – со всем Своим сонмом. Святой Егорий стал помогать коней пасти, святой Никола – рыбу ловить, Илья Пророк – урожай убирать. Сам же Христос стал всякому душевному делу потатчик. И Русь стала святой – не потому, что люди стали как ангелы, а потому, что удостоились, хоть и грешные, жить на освященной земле. В Новом Иерусалиме. Как же не целовать такую землю, ведь это все одно, что целовать икону. Так все в конкретном крестьянском мышлении срослось – Русь и Рай. Современную тоску по этому исконному цельному мироощущению с гениальной убедительной простотой выдохнул Сергей Есенин:
Господи, я верую,Но возьми в свой райМой пронзенный стреламиДождевыми край.Раньше-то не сомневались, что возьмет, – уже взял. А свидетели и поручители этой сросшести Руси и Рая – целая рать великих русских святых, богорадных русских икон и церквей. То есть, русская старина.
И вот является некто и заявляет, что вся эта старина пребывала в слепом заблуждении, жила «ветром головы своея», предавалась «сонным мечтаниям». И молилась не так, и книги читала не те, и персты слагала не по канону. И пробирается этот некто на патриарший престол и требует круто все поменять – во угождение умникам чужебесия. Ну, как было не заподозрить в этом некоего антихриста? Это что же, Феодосии Печерский и Сергий Радонежский, Нил Сорский и Стефан Пермский, Андрей Рублев и Дионисий были неправы, а полутатарин Минька, пришлец, их правее? Антихрист и есть. Тем более, что и ввели-то новые правила не когда-нибудь, а в 1666 году. Смекайте сами. Тысяча – число сатаны, 666 – апокалиптическое число Зверя. Пришли, пришли последние времена. Господь ожидает от верных Ему жертвы – во искупление безобразий, во спасение души. Уж лучше сжечь себя, чем оскверниться. Лучше сейчас спалить дух родной земли огненным духом, чем потом – вечно гореть.
Такова была логика русской трагедии, расколовшей и русскую историю, и русскую душу.
Россия, к счастью, неистребима. На боль насилия она ответила новым напряжением духовных сил. «На вызов Петра Россия ответила Пушкиным». Великой русской литературой. И не только ею, но и Серафимом Саровским, Тихоном Задонским, Феофаном Затворником, Амвросием Оптинским, Иоанном Кронштадтским – новым подъемом святости. Но тоска по золотому веку русской цельности и «всеединства» осталась. Откуда же иначе вся эта бесконечная галерея «лишних», полых людей, заполонивших русскую литературу от Пушкина до Чехова, откуда духовные корни героев Достоевского, Толстого, Горького, Платонова?
Да поможет нам «Раскол» Владимира Личутина не утратить живую связь с русским Преданием. Не утратить себя.
Зачин
Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое.
Господи, как бессилен ум мой; темною слепою водою залиты глаза мои; и душа без дорожного посоха, без ключки подпиральной робеет и трех верст отшагнуть от порога суетных наших лет; и нет одесную близ меня пастыря надежного и несуесловного, а ошуюю неотступно пасут сомнения; нашептано в ночах – выше воли может стать лишь вера, она укрепит рамена, но где напитаться ею, ибо крошечный огарок сердечного родства едва теплит средь покинутых весей России. Так, может, от отчаянья и только из отчаянья выткется та сила, что удивительно укрепит мои персты, наполнит жилы, и токи те понудят скорбеющую душу исторгнуть слово, к коему давно готовилось сердце. Может, из отчаянья прорастет слово, а из слова проклюнется смысл, как душа из омертвелой плоти, и осенит, и обнадежит меня в затейном труде. Куда и с чьим напутствием пустился я во все тяжкие в не лучшие для России дни, полные смуты; кто, позабытый и не обласканный мною, настряпал подорожных хлебов, чтобы я вовсе не потерялся в одиноком пути? Один я, как перст: но коли взмолиться истово, то вдруг истечет утешный глас?
Два крыла моих, как утиные перепонки, будто решето, насквозь протыканы гвоздьем долгих сомнений; два неподъемных крыла, лишь груз суставов и хрящей; отлетели невидимые ангелы, и все чаще седой ворон сторожит и сурово «крыкает» на засохшей ветле, и что-то вещее чудится мне в его сатанинском, надменно скошенном на меня глазе... Где вы, обавники и кудесники, прорицатели и ведуны, волхвы и бывалые люди, чернокнижники и цыгане, коновалы и колдуны, травницы и ведьмы с Лысой горы, толкователи снов и прорицатели, неистовой стаей окружившие православный крест, и не в силах отпасть от него; цветник, возросший на Черной книге, осыпанный шипами и перхотью неизжитой мести; где вы, читальщики и исповедатели Рафли и Шестокрыла, Воронограя и Остромита, Зодия и Альманаха, Звездочетьи и Аристотелевых Врат, говорят, вы провидите время, как небесные своды и толщи вод...
Но смутой и холодом лукавого обавного ума пронизывает меня, как сквозняком, и я пугаюсь и вас, торопливо пряча уже протянутую к Черной книге влажную руку. Из заповеданных рассказов бывалых людей известно, что Черная книга хранилась на дне морском под горячим камнем Алатырем. Какой-то чернокнижник получил завет от старой ведьмы отыскать Черную книгу. Что он и сделал. С тех пор гуляет она по белому свету: было время, когда Черную книгу заклали в стены Сухаревой башни. Но вот и башня та осыпалась, а книга та заповеданная, связанная страшным проклятием на десять тысяч лет, стала как бысть невидима. В ком Бог, в том и сила: но что за искус поманывает, что за наваждение в том обавном, неискреннем, что хоронят в себе всякие чары: знать, не меньшая власть и в наваждении. Есть лазурное небо, но живет и Потьма, не избежать нам Золотого кольца.
Есть поверие, что умершие чернокнижники в белых саванах своих навещают родные дома и шарят по избам, ища свою заветную книгу, стучат в окна и двери, сводят домашний скот и с родичами творят проказы. Когда терпению приходит конец, чернокнижника выкапывают, кладут во гробе ничком, подрезывают пятки и снова засыпают землею. Дока, местный кудесник, шепчет заговоры, а домашние покойника вбивают осиновый кол между плечами.
Всякий темный дух как бы пригвожден к земле, нет ему полета; мать – сыра земля дает слову густого замеса и лишает крылатости; речи, опершиеся на Черную книгу, лежат на страницах, как исторгнутые из пашни каменья. Значит, и на обавников нет мне надеи? Но случается, что камни летят с небес, сверкающие, как смарагды, от них сыплется голубая алмазная пыль. Они спешат к земле, откинув пылающий хвост, и сулят людям несчастья.
Все суета сует, все однажды источится в лед и пламень: слово, прорастающее из земли, и слово, летящее с небес. Так к чему мои страды? что тщусь я прочитать в потемках иссякших лет? какие поучения и уроки, какие заповеди и заветы? Может, давно уже заплесневели они, обветшали и в их скорлупе давно нет сердца, как протрухла болонь у изжитого палого дерева.
Но для чего пели молодицы на игрищах (нынешние прабабки мои): «Коза, коза бя, где ты была? Коней стерегла. И где кони? Они в лес ушли. И где тот лес? Черви выточили. И где черви? Они в гору ушли. И где гора? Быки выкопали. И где быки? В воду ушли. И где вода? Гуси выпили. И где гуси? В тростник ушли. И где тростник? Девки выломали. И где девки? Замуж вышли. И где мужья? Они померли. И где гроба? Они погнили».
И не хороводная вроде бы песня-то, но пели на игрищах. Это песня бессмертия.
Не дивны ли дела Провидения, и по какому невидимому списку исполняются они?! Где отгадка тому, что судьба России зачастую зависела от затейного норова пашенного смерда, или от попишки с затерянного погоста, иль монастырского служки, от юродивого иль скитского затворника с вещим, проницательным взором?..
Иван Сусанин спас Михаила Федоровича, будущего царя. Светятся имена Сергия Радонежского, Осляби и Пересвета, Ильи Муромца и Даниила Заточника, келаря Троицкого монастыря Авраамия Палицына и Козьмы Минина – нижегородского гражданина. Иван Грозный был вымолен у Господа Пафнутием Боровским. Вот и у Михаила Федоровича родятся лишь дочери, а наследника Бог не дает. Царь христолюбив и благочестив; молятся о ниспослании чада у Троицы Сергиевой, молятся у Саввы Звенигородского, молятся в Чудове и Боровске, молятся в далеком Соловецком монастыре и в домашней Крестовой палате в Верху, но все нет желанного исполнения. Но где-то же на Руси должен обитать тот великий подвижник, тот всесильный молитвенник, тот проницательный и вещий взором, благочестивый и неистовый в поклонах, воздержный постник, чьи смиренные тайные зовы дойдут до Сладчайшего и будут услышаны. Однажды в глубокой печали беседовал о сыновстве великий государь с царским кумом троицким келарем Александром Булатниковым. И тот назвал имя прозорливца Елеазара Анзерского, что в миру был родом из Козельска, купеческий сын Севрюков. Отличался он по Беломорскому Северу необыкновенной святостью и кротостью, заложив на пустынном острову особножитскую обитель для схимонашествующей братии. И в Москву «с отока морского» был доставлен смиренный инок. Скитник Анзерский предрек царю, де, «силен бо есть Бог дати вам плод по мере вашей». Год молился Елеазар в Чудовом монастыре, и появился у царя Михаила сын Алексей, позднее прозванный Тишайшим, и от коего с такою болью и так внезапно преломилась русская жизнь. Чадо молитв анзерского пустынника – таковым почитал себя Алексей Михайлович до гроба.
И не странно ли, что в дни молений Елеазара о чуде чадородия проживал в столице поп Никита Минич со своей несчастной женою: троих деток дал им Бог, но те не зажились и в раннем возрасте сошли в землю. Нося в себе неясную, неизбывную вину за незамолимый грех, решили супруги разойтись и постричься. Никита, много наслышавший о чудотворце, отправился из Москвы на скалистый Анзер, «в оток морской», где Елеазар и постриг его под именем Никона. Надо было случиться тому в 1635 году. Но вот из Москвы известили, что бывшая жена его, «эта немощнейшая чадь в доме», угодила в сети лукавого, от монашества – наотрез, захотелось ей в новое супружество. Вот уж воистину: «Мудрость женская, аки оплот неокопан – до одного ветру стоит. Ветер повеет, и оплот порушится». А куда Никону-иеромонаху деваться? Ему и служб не служить, и налой заказан, ибо по древнему соборному правилу: «Аще поп пострижется, а жена уйдет замуж, тогда несть поп». И стал Никон домогаться письмами до московских сродственников, чтобы наставили лукавую грешницу уму, и до того часу не успокоился, пока не постригли бабу.
По древнему скитскому уставу, коего держался строго Елеазар, всякий инок обители обязался жить с открытою, исповедальною душою, как с распахнутой книгою, что читал неустанно медоточивый Учитель. Страсть монаху – первейшая пагуба, страстью улавливает лукавый инока в свои тенета и мучает его, и прогибает долу, и лишает ума; а страсть отягчает сердце Никона. Это чуял анзерский чудотворец, сам досадовал, лишенный покоя, скорбел и плакал по Никоне, как о больном чаде, домогаясь его откровений. И долгими постами вроде бы изнурен иеромонах, и боголюбив, но слишком гордо посажена голова, и нет-нет да застит бешениною глубокие глаза, и уросливо вскинутся плечи от кроткого наставления чудотворца. И однажды привиделось Елеазару во время службы, будто змея черная и зело великая оплела выю Никона, испуская пастию дым и огонь. И поведал Елеазар ученикам своим: «О, какове смутителя и мятежника Россия в себе питает! Сей убо смутит тоя пределы и многих трясении и бед наполнит».
Не аскеза мучила Никона, но послушание и страсть. Через три года, когда Елеазар сидел в Соловецкой темнице, иеромонах Никон, двенадцатый его ученик, тайно бежал с Анзеров на карбасе мезенского кречатьего помытчика Созонтки Ванюкова. Неведомо для себя, поддавшись страсти водительства, Никон поменял путь святости на дорогу святительства...
Росстань
— Сынок, слышь-ка... Нето опять заблажил? Сплюнь отраву-то, слышь, сыне? – донеслось с угора. – Кабыть захмелел с ладанного духа, с братней отравы. Не в панафидный приказ метишь?
Отрок не отозвался; он зачарованно смотрел на восток, откуда всплывал золотой слиток; вокруг него неясно маревило, там вставали сполохи; словно бы ярило окружали неясные тени крылатых гонцов. Парнишонко стоял о край приглубистой песчаной релки, едва забредши бахильцами, холщовая рубашонка просторно обвисла на острых плечах: струистый волос, на затылке выгоревший добела, сбегал по тонкой, почти девичьей шее, огибая глубокую ложбинку. Морская вода парила, отдавая последнее тепло. С вечера грозило грозою, как бывает в рябиновые ночи начала августа, всю ночь вспыхивали с полуденной стороны сполохи, беззвучно вспарывали небо, разваливали аспидную темь Божественным мечом. Страшно было выглядывать из-под буйна, раскинутого по карбасу, будто демоны осаждали, шли ратью на малых тварей земных, покинутых творцом у каменного острова... И вот золотой слиток вспухает, и вокруг него роятся ангелы, и темь позорно отступила, прощально затаившись за бортовинами карбаса. По нашивам легко накатывало прибрежною волной, и на ее покатостях вольно вспухали зубатки, не страшась людей. Ярило выпросталось из пелен, косые пряди тумана робко отступили прочь, сгустились в полуночной стороне, а по глади залива заструилась легкая стружка. Будто кто неведомый властною рукою сгорстал на праздничном застолье браную скатерть, сморщил ее и повлек натягивать на анзерские сизые лбы, будто ножом-клепиком принялись состругивать с распяленной звериной шкуры слоистое тюленье сало, и сейчас оно легкою пеной оседало на песчаной длинной косе. Отрок зябко перебрал лопатками и, загребая бахильцами это утреннее морское сало, выбрел на берег. Взгляд отрока был мрелый, почти неживой. Также отупело парнишка покрылся сермягою, перепоясался вязаным кушаком, но гордовато поправил на низко спущенной опояске нож, заправленный в берестяные ножны.
Созонтко Ванюков, по прозвищу Медвежья Смерть, виновато глянул на сына и отвел в сторону белесоватые глаза; заторопясь, он снял с мытаря кашный котел, пристукнул в середку поддона, вынесенного из карбаса, и, досадуя, поплевал на обожженные пальцы. Ночь прошла – и слава Богу, опять же возблагодарим Господа, что живы и готовы с открытым сердцем встретить благословенный день, а брюхо, что котел, оно пустоты не любит.
...Пока же рассаживаются поклонники, пока заправляются вытью, готовясь в путь недолгий, но рисковый, мы на каждого взглянем исподтишка, навечно запоминая: ибо всякий человек, пускай и случайно родившись, уже достоин приметливого взгляда.
...Созонтко прижал к груди ковригу и, отчаянно сопя, отвалил три однорушных ломтя. «Пожалуйста, с нами хлеба-соли есть», – пригласил он добродушного случайного спопутчика: тот в это время усердно копался в дорожной укладке. «Незваный гость хуже татарина. Вам, поди, не одне сутки дорогу ломать», – заотказывался тот, не подымая от поклажи глаз. «Дак и не обеднеем. Свое едим, свое потчуем». – «Уж и не знаю, право. Братия монастырская удоволила, не даст пропасть с голоду». – «Экий ты ломоватый. На ломоватых черти воду возят».
Попутчик лишь для прилику поотказывался и, перекрестившись, с охотою подсел к братской трапезе, вытянув ноги в сафьянных красных сапогах. «Знать, не простой человек. Коли есть гроши, то и мужик хороший», – насмешливо решил хозяин трапезы. «За молитв святых отец наших...» – Созонтко скоро отчитал молитву, обратившись к солнцу, сын же его встал на колена, низко склонив голову, и пшеничные волосы его осыпались на камешник. Потом всяк занял приличествующее место; Созонтко первым запустил ложку в кулеш, потянул мяса; ел он трудно, долго перетирая волоти худыми зубами, отворотясь от трапезы, вроде бы стыдясь народу. У Созонтки лицо было притягательное своею страшностью: левая щека словно бы выедена до самой кости; туго натянутая, с былыми язвами, кожа казалась прозрачно-глянцевой, просвечивала насквозь; левый же глаз, вывернутый изнанкою, окаймлен кроваво-красной бахромою, правый белесый глаз насмешлив постоянно; левое ухо порвано, без мочки, и даже длинный, подбитый сединою волос не скрывал корноухости. Созонтко среди двинских помытчиков славился за известного поединщика, девять раз брал медведя из берлоги на рогатину из одной лишь удали и бахвальства, трижды назывался в царские медвежьи бои с вилами. Один раз был пожалован государем Михаилом Федоровичем кафтанцем, другой раз двумя портищами сукна-настрофиля, третий же раз сыграла судьба с Созонткой злую шутку. Подвело ратовище, хрупнуло под «мамкиными» лапами, и угодил Созонтко зверю на именины, в недобрые объятья. Сломал он медведице шею, чем немало потешил царя, но и мужика убил зверь чуть не до смерти. За удальство свое был жалован двинский помытчик пищалью польского дела с замком колесным, резным, серебро с чернью, а станок яблоневый, на нем сечены травы. Вот она, винтованная пищаль польского дела (всем на зависть), лежит подле ноги, а в торбочке из нерпичьей кожи, расшитой женской рукою и притороченной к поясу, – весь огневой заряд, да подле в чехольце из рыбьего зуба трутонаша, кремень и кресало, с другого боку кинжал двуострый с наборным череном. Самосшитые бахилы, пропитанные ворванью, ступнею в медвежью лапу, раскатаны до рассох и перехвачены под коленами тканой цветной тесьмою. Сермяга из домашнего грубого сукна на груди широко разверста, там видна холщовая крашеная рубаха с косым воротом и набором мелких костяных пуговиц-леденцов; шея у Созонтки вырастает из ворота, как бурый березовый окомелок, исчеркана ранними морщинами. И ладонь, кою подставляет Созонтко под ложку с кулешом, вся в белесых шрамах и отметинах от охотничьих забот.
Созонтко родом из Мезени, оттуда отец с маткой и все колена Ванюковых, кречатьих помытчиков. Хоромина его на угоре, на задах съезжей избы, окнами на реку. У Созонтки жена Улита и три сына. Старший – Афонасий сызмалу, в чернецах же Феоктист, ныне в Соловецкой обители будильщиком. Как отметил отец, Феоктист – слух и око настоятеля, он все знает, все ведает, всем повелевает, для рядовой ратии гроза, посмей-ка ослушаться. Увы и ах! С утра будильщик на ногах, с колокольчиком обходит монастырь, призывает к молитве, братии дает труды посильные для послушания, иных по церковному чину спосылает волею настоятеля служить иль всенощное бдение, иль литургию, молебны, панафиды. Феоктист – недремное око старцев, он круглые сутки на ногах и службою своей горд.
Младший сын – Любим, еще в берестяной зыбке на очепе колыбается, чукает мамкину титьку: последнее дитя, Любимко, отрада семьи, вылитый тятя. Будет кому передать ловчее знание.
Средний – Минейко, вот он, подле, едва волочит ложку, словно отраву в рот берет. Взгляд небесной сини со страдальческой поволокою. Кто-то недобрый из Мезени положил на мальца худой глаз, сглазил, оприкосил, и вот завладела Минькою стень, изнурительная сухотка. Он было выгорел весь изнутри, насквозь светился (вот тебе и стень), его уж и не почитали за жильца, не надеялись отвадить; по совету знахаря носили в лес и там, растелешенного, клали в развилок ели на трое ден. И вот не помер, не застыл, не заколел, и Созонтко носил свое чадо, прижавши к груди и плачучи, не тая слез, трижды девять раз вкруг дерева, как повелел знахарь: после дома купали в воде, собранной из девяти родников-студенцов, обсыпали золою, вынутой из семи печей, да томили на горячей лежанке. Минька еще сутки вопил лихоматом, уж на другое утро уснул, замаянный, как умер. Призвали попа, да и соборовали. А он вот и ожил вдруг, ныне вытянулся ивовой хворостиной, но лицом, как ярый воск, ни мазка на щеках алой краски.
У Минейки есть свое налучие из тонко выделанной кожи морского зайца: из саадака выглядывает рог детского лука и дюжина березовых стрел с кречатьим пером. Отец с мальства приучал сына к ловчей затее, но что толку, посудите сами? Лишь Созонтко оставил отрока без пригляду, тот ложку прочь, сместился на камень-голыш о край воды и принялся резать крестик из можжевела.
– Слышь, Минька, зря ты порты носишь, – поддразнил Созонтко сына, чтобы отвлечь того от внутренней скорби. Ведь вот и соловецкие старцы-читальники не помогли, но внесли в его грудь какой-то иной дух, может, ту самую маету, от которой ушел в монастырь старший сын. В мать пошли дети, в Улиту, задумчивостью своею. – Тебя бы в сарафан-костыч обрядить, вот и бабка Кычка столетня.
Сын обернулся, кротко сказал, не заметивши отцовской ехидны:
– Тять, я было нынче во сне-то помер. Меня во домике несут, а Феоктистушко, братец, впереди с Псалтырью. Ты, тятя, с маменькой Улитой позади причитываете. Я помер будто, а все слышу. Заулком-то несете, белугой воете. И так жалко вас стало, я и заплакал. Тут на улку выходить, а заворы худо раздернули, поленились. Ящичек-то и кувырк. Меня в грязи и выкупали. Кой-как грязь отряхнули, да и опять во гроб. А я все слышу, не диво ли? Вот, думаю, сейчас в ямку положат, земелькой присыплют мои глазыньки, в горлышко песочек набьется, и я дышать не замогу...
– Какое дыханье с землей-то, не лягушка, бат. Какой только страх не наснится. Ты, сынок, на левом боку заспал, вот и наснилось, – пробовал отвлечь Созонт.
– В горло земелька набьется, – повторил сын, напирая на последние слова, знать, явственно видел, как насыпается в него струйкою песок, забивает всякую пору. – Я так забоялся, так забоялся и задумал кричать. Тятя, я-де живой, слышь-ка? А тут гроб вдруг в реке оказался, плыву я. И села на край домика моего большая белая птица и склюнула со лба моего венчик. Вот, думаю, не примет меня Господь, нехристя. – Тут Миня споткнулся и замолчал, смахнул из глаз невидимую соринку.
– А что дальше-то? – подал голос попутчик.
– Тут я и проснулся. Вижу, большая белая птица прочь от меня. Навроде лебедя.
– Баклан, поди...
– Может, и баклан, – согласился сын, поднялся с камня и сгорбленно зашаркал бахильцами по заплескам прочь, спинывая в воду почерневшие змеистые плети водорослей.
– К погоде наснилось, – уверенно пояснил Созонт, но отчего же с такою жалобной надеждою взглянул на сидельца? – Как тебя, сынок, величают?
– По житью, дак Александр Голубовский, а по родителям... – Он замялся. – В подьячих я у вологодского святителя Варлаама.
– Вижу, что не холопьего вида, – сгруба подольстил Созонт, но тут же вернулся в свои заботы. – Вот кабы мне сыскать того лешака, я б в него осиновый кол забил, ей-ей. За что он на меня-то напустился? Господи всесилый, где анделы твои, куда милостивая рать подевалась? Убылой, поди, кто напроказил. Ищи ныне. Иль залетный ненавистник мой. Был онамедни дохтур воеводы Сокровнина. Навестил, а я после полы мыть повелел. Да худо, знать, помыли. Что нехристь с парнишонкой содеял. Места себе не найдет. Вроде телом справился, так опять лихо душу есть...
– Глядел я на него. Прощайся, батя, с сыном...
– Окстись, охальник. Да я за него, знаешь ли ты? – Созонт потянул пищаль, но спутник не смутился и не устрашился.
– Ты яр, мужик, а сын вял. – Нижняя губа брезгливо опала. – Но его очами сам Господь зрит. Иль не чуешь, Медвежья Смерть? Я ныне в Москву подаюсь в Новую Четь к дьяку Ивану Патрикееву, он большой мой друг. Хошь сына спасти, поручи мне. – Голубовский потуже запахнул кафтан из темно-синего киндяка на русачьем меху, оправил кривую саблю турского дела, из дорожного кошеля добыл костяной гребень. – Вот ты на меня рычишь, холоп, но сам архиепископ называл меня княжеским рождением и царевой палатою. – Голубовский прибирал темно-русые волосы, волною сбегающие на плечи, и Созонт уже по-иному глядел на спутника. Глаза у подьячего навыкате, смородиновой спелости, хребтина носа тонкая, с белесым шрамом на горбинке, усы вислые, с темной рыжеватиной, и редкая шерсть на скульях и подбородке. – Так что молчишь? Иль языка лишился?
– Бранчливый ты больно, – миролюбиво отозвался Созонт. – Ты вот меня страшишь, а меня сам отец-государь привечал. Вот еще поглядим, какого полета ты птица, – ворчал охотник, снашивая в карбас подорожную кладь. – Эй, сынок, отчаливать пора, – закричал на гору. – Я ведь как рыкну, так лес на колени падет. А ты предо мною, как голубь под соколом, – бормотал охотник больше себе в утешение, ясно не понимая, отчего вспылил вдруг. Но показалось вдруг, что тот обавник, положивший сглаз на Миньку, вдруг явился из просторов и возжелал вовсе отнять сына. Откуль, однако, он и прозвище вдруг прознал... «Медвежья Смерть»: так мне написано на роду. А ты вот решись, дак кишка тонка». Но Голубовский навряд ли что и слышал, он примащивал на голову с некой значительностью колпак с бархатным верхом и с тульей из беличьей хребтины. Он и Созонта, наверное, позабыл сейчас, занятый своей наружностью. Но кто бы подсмотрел сейчас в его глаза, то испугался бы черной блистающей их глубины и отвращенья ко всему. Воистину люди собою становятся лишь наедине, когда никто не подглядывает.

