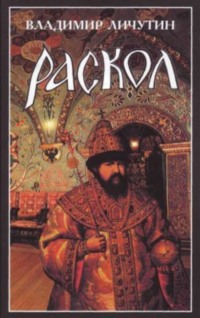
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
– Изверг я, изверг, – упавшим голосом простонал Голубовский. – Паче всех человек окаянен есмь, но покаяния нет во мне. Даждь ми, Господи, слезы, да плачуся о делах твоих горько. Сидит во мне суторщина, ест поедом, а сладить не могу...
– Вот-вот. Только бы ухапить да сожрать. На что решился, окаянный! Неуж неведомо тебе твое бесстудие и ушеса завешены покровцами? Ты ж Москву возмечтал предати, царственный град наш. Гречане уж когда потеряли веру, крепости и добрых нравов нет у них, ибо покой и честь их прельстили. Помни, холоп, и вздохом предсмертным воспой алилуйю: Москва – третий Рим, а четвертому не бывать. Пусть изженут тебя ангелы в тартары, но и там не дай женитвы с дьяволом. Понял? На Страшном суде зачтется твоя мука... А теперь прощай.
Никон встал, пристукнул посохом по лещадному полу, высекая искру, поворотился к образам и пропел: «Достойно есть». Голубовский опустился ничком, распростерся, раскинув крестом руки, прижался щекою к серому ноздреватому камню, пахнущему тленом; слабой волной прошла по телу жалость по себе, легкая слеза скатилась со щеки и заблестела на полу живым речным жемчугом.
– Кто ты? – грозно вопросил Никон, оборотясь.
– Тварь заблудшая и горький сирота, от коего отвернулась родина и Бог.
– Ступай же и в эту седмицу не принимай брашна. Я же, грешник, по тебе плакать буду.
У самых дверей настиг Голубовского зов Никона:
– Так пошто ты, бродня и еретник, вернулся? Кто зазвал тебя на мучения?
– Открылось мне, что хотят латинники и агаряне нас погубити и будут стремиться к тому до скончания века. Ежели они поедают солнце каждый день, упрятывают его в подвалы, то что им стоит пожрать Русь? Уж коли довелось помереть, так хоть в своей земле...
...Вечером Никон, обкусавши тростку из гусиного пера, докончил листы: «Милостивый государь Алексей Михайлович! Уподобись милостивому и человеколюбивому Богу! Как будет тебе о своих винах бить челом рабишко твой Алексашка Голубовский, прости его Бога ради; а я уговорил его принести вины и в милости твоей ручался. А если бы не так уговаривал, то он бы и вовсе отчаялся за свое плутовство и на большое бы худо вдался...»
«И какова чину ни буди, князь или боярин, или простой человек изыман будет на разбое, или в татьбе, или в злом деле, в смертном убийстве и в иных воровских статьях, и приведут его на Москве в Разбойный или в Земский приказ и таких злочинцев в праздники и в иные дни пытают и мучат без милосердия, для того что вор и сам, не избирая дней, воровства свои и убийства делает».
Са стрелецкою вахтой Голубовского доставили в Москву в Разбойный приказ. В дороге он выбросился с телеги, пытаясь под колесами закончить жизнь свою, но тщетно. После трех встрясок на дыбе и пятнадцати ударов кнутовьем самозванец заговорил: де, вину свою государю приношу, ибо и сам к нему стремился для вразумленья, лютеры и алгимеи замутили мою слабую голову. Человек я убогий, а отец мой и мать какие люди, того не упомню, потому что остался мал. Когда я с молодости жил у архиепископа вологодского Варлаама, то архиерей, видя мой ум, называл меня княжеским рождением и царевой палатой, и от того прозвания в глупую мысль мою вложилось, будто я и впрямь честного человека сын.
На вопрос: кто его научил называться Шуйским князем, Голубовский отвечал: «Отец мой Демка». Тут привели мать самозванца монахиню Степаниду. Взглянув на Алексашку, она сказала: «Это мой сын!» Голубовский долго молчал. Потом спросил монахиню: «Как тебя зовут?» «В миру, – сказала она, – звали меня Соломонидкою, а теперь в монахинях Стефанида». Голубовский сказал: «Эта старица мне не мати, а матери моей сестра и была до меня добрая, вместо матери». У монахини спросили, кто был ее муж. Она отвечала: «Муж мой был Демидка, его, Алексашкин, отец, торговал сперва холстами, а после жил у архиепископа Варлаама. Алексашка родился у меня на Вологде, и ему теперь тридцать шесть лет».
Голубовского приговорили к четвертованию. Уже с Болота, где поставили самозванца пред казнью на всеобщее посмотрение, памятуя о просьбе Никона, государь вернул злодея в Чудов монастырь; здесь и постригли его в монашество.
Так Никон вернул долг.
ИЗ ХРОНИК. В 1649 году по царскому указу тайно был послан из Москвы в Сийский монастырь старец Александр Голубовский. Путь из Москвы в Холмогорский уезд не близкий, и только через месяц, 21 сентября, опальный старец со своим провожатым прибыли в монастырь. В государевой грамоте на имя игумена кратко было указано: «Послан для того, что ума исступился и говорит нелепые слова». Голубовскому приказано было отвести особую келью и держать его под крепким началом, чтобы он не скрылся из монастыря. Для исправления исступленного старца игумену предписывалось выбрать из числа братии старца добра и духовна, который был бы воздержателен и учителей и во иночестве стар, чтобы он просвещал и наставлял узника, а вместе с тем и наблюдал за его жизнью. Остальным же монахам строго было запрещено входить в какие ни то отношения с Голубовским, слушать его враки и нелепые слова. У Голубовского было с собою имущества: несколько евангелий с драгоценными камнями, свыше десяти икон – все серебряно-вызолоченные, с камнями, одна резанная на раковине, серебряное кадило, поручи с серебряными кольцами, большие келейные часы с медными гирями, каменный сосуд с Синайской горы, оловянные блюда и тарелки, меховые полости... – все эти вещи не могли быть достоянием простого монаха. Старец был лицо образованное, любившее посвящать время умственным занятиям и делиться мыслями с другими людьми и писать письма. В грамоте было оговорено: «... чернил и бумаги ему не давать».
В пределах монастыря Голубовский пользовался почти полной свободой, к работе его не привлекали, кормили, как и остальную братию. Годы до побега прошли мирно – казалось, старец примирился со своей участью, привык к новому положению и спокойно переносил свое заточение. И вдруг в нем что-то прорвалось. Старец сделался буен, непокорен. Нынче, де, жалуется братия, тот старец Александр быть под началом не хочет, а хочет жить во всем по своей воле. Голубовский начал вмешиваться во внутренний распорядок монастырской жизни, приходил на работы, заводил ссоры с монахами. Когда его пытались останавливать, он внезапно раздражался, впадал в исступление, гонялся с топором за трудниками. Однажды даже поднял руку на своего духовного отца иеромонаха Михаила, старца Евфимия, который был приставлен к нему для наблюдения, схватил за горло и едва не задушил, а иеродиакона Феодосия спихнул с келейного крыльца. «И иных многих старцев и служек побивает», – добавляли в своей жалобе монахи. Старцы были страшно напуганы: не имея от государя никаких указаний, они не решались самовольно применить строгие меры к Голубовскому и оказались бессильны перед буйным старцем. Беспокойство их возросло, когда под келейным амбаром у Голубовского была найдена лодка, пропавшая недели за две перед тем. Монахи писали государю: «Ограды около монастыря нету, кельи задними дверьми и сенными стоят на озеро, а около озера лес, и беречь нам Голубовского невозможно». Указ от 31 декабря 1652 года резко изменил положение старца Александра. «Будет он так плутать, – гласила царская грамота, – вы бы его смирили гораздо и тем людям, ково он бил, оборон дали – поучили ево метлами и чепью, чтобы ему впредь так плутать было неповадно». Велено было лишить Голубовского прибавки и кормить пищей рядовою, возложить на него тяжелые черные работы и заковать в цепи, сделав нарочно широкие железа и кайдалы. А будет и железа его не уймут, царь повелел строптивого старца посадить на цепь, чтобы его утрудить и от дурна отвести и привести бы в чувство и в послушание.
ИЗ ХРОНИК. «В 1651 году инок Феодор на допросе объявил. Отправлен он в Чудов монастырь под начало черному попу Илье, да с ним же сидел под началом иноземец Краковский, и он испил у того иноземца квасу – и у него в брюхе начало шуметь, и чает, что в те поры он испорчен. И когда учал он говорить Псалтырь, и в те поры перед ним зашумело: как бы пролетел ангел или бес, и ангел велел ему Богородицын образ со стены снять, для того что непригоже образам кланяться, и он, сняв со стены образ да крест, положил на землю, и крест начал вспрядывать, и он на образ и крест вступал ногами, а то дело Божие учинил он по ангелову веленью, а не просто так. А начал он помышлять недель с десять тому, что иконам кланяться не подобает, потому что Бог на небеси, а то образ Божий. Когда ему сказали, что Бог невидим, то он отвечал: „Всякому человеку можно Бога умными очами видеть“. Тому недели три или четыре говорил ему казенного приказа дьяк Захар Онуфриев: „Худо у нас то учинено: где торгуют хлебами и калачами, тут торгуют и образами“, и ему, Феодору, с тех пор вместилось в мысль о иконах, что не подобает им поклоняться. Достойно ли им поклоняться, потому что иконы пишут мужики простые и пьяные небреженьем и продают в торгу. И вот пало в мысль, что надобно государю объявить, что Бог на небеси, а иконам достойно ли поклоняться? И чтоб государь велел свидетельство писать те иконы всем иконописцам справчиво и приставил бы к иконному делу честных людей. И как он был в Чудове монастыре под началом и приведен был в келью, и тут стоял образ Спасов Нерукотворенный; и он, Федька, начал на тот образ смотреть, и тот образ начал претворяться разными виды...
Еще на допросе чернец Феодор показал, что ни писем, ни поручений Голубовский ему не давал, подарил только образ Живоначальной Троицы, резанный на раковине в серебряно-вызолоченном окладе. Этим образом Голубовский благословил Феодора и просил поминать его в молитвах. Феодор не расставался с образом, носил его всегда при себе, объясняя тем, что старец Александр сказал ему, будто от того образа явление было.
Инока Феодора Мезенца вернули в Сийский монастырь на строгую епитимью, в тяжелые черные работы. Но не прошло и года, как осенью пятьдесят третьего «забежали безвестно куда старцы Александр и Феодор». Не удержали Голубовского и огибные железа, что кинжами были закованы на ногах. За утеклецами послали в догон. Монастырское начальство ведало, как пекутся в Москве о судьбе Голубовского, и своим нерадением боялось навлечь царский гнев. Но и долгими розысками, в которых учинились монастырю протори великие, убеглых не нашли...»
Глава третья
Дух незримый витает над бренной землею, и нет для него препонов. Спящий человек что мертвый, уже сошедший на судилище, над ним вьются сатанинские стаи с одной надеждой заполучить грешную душу его, и при виде кружащей безжалостной нежити, этих распахнутых черных крыл и жадно разверстой багровой гортани не раз вскрикнет в ночи беспомощная человечья душа, не в силах оградить себя крестом. И тут Дух вселенский встает в ногах, ограждая бессилого, распнутого православного бронею веры.
Чу!.. Вроде бы всхлопала ночная дверь на постельном крыльце, не колыхнувшись в петлях, и апрельским сыроватым воздухом протянуло по длинным переходам теремов, чуланов, сеней и жилых палат мимо стрельцов, опершися на бердыши, сомкнувших лишь на вздох налитые свинцом глаза, жильцов на лавках сеней и стряпчих, мимо окольничих и спальников, мимо ключника и постельничего. Скорее, скорее; ох, как тяжко вашему государю! И вот колыхнулись кисейные запоны с золотными травами, и облегченно вздохнул молодой царь, и усталый пот высыпал, оросил пространный белый лоб, едва взморщенный в переносье, и воскрылья тонкого носа, омочил темно-русые волосы, небрежно рассыпавшиеся на пуховом сголовье. И сквозь темные ночные обочья в едва открывшиеся миндалины бессмысленных глаз, и широко взрезанные ноздри, и припухлые от сна губы, обросшие собольей податливой бородою, скользнула и улеглась спасенная и успокоенная его душа, привычно обустраиваясь в обжитом тереме. Очнулся государь, и брусничным морсом вроде бы омыло крутые щеки его. Красив царь особенной русской добротою, что не изгладилась и в забытьи, когда все затаенное проступает наружу, и слава Богу, что заступился за него незримый Дух, отогнав прочь неистовую стаю. Царь беспамятно вскинул над головою руку, сбивая на сторону жаркое лебяжье одеяло, и ночная шелковая котыга, распластанная по вороту, почти скатилась с плеч, выказывая молодеческую шею и кипарисовый крест на золотой кованой цепи. Тут в потешном дворце вскричал петух, вторя ему, отсчитал колокол час боевой, и царь Алексей Михайлович очнулся как бы из смерти.
Правая ладонь болела; царь взглянул на нее и в свете многих лампад увидел, что от стиснутых, остамевших пальцев отпечатался на коже кровяно набухший след ногтей. «Господи, помилуй мя!» – мысленно воззвал царь, еще ловя памятью быстро тускнеющий, истекающий неведомый глас, только что помогший в поединке. Стараясь поймать Божью волю, царь скорее сомкнул очи, и сон редкостно повторился. Вот Алексей Михайлович бежит по солнечному лугу от настигающей беды, ему страшно оглянуться, но царь незнаемо кем уведомлен, что настал конец света, и он, государь московский, остался один на миру, и надобно ему спастись, и в том грядущем его бытовании весь смысл земного устроения. Но с каждым шагом позади как бы обламывался в бездну, искрашивался цветущий луг, укорачивался, исходил в пепел и сернистый пар, и царь чуял, как поджаривает пятки судным огнем, а подошвы сапожонок, подбитые мелким серебряным гвоздьем, истлевают на плеснах. И страшно было оглянуться, чтоб встретить глазами последний час мира, ибо кто оглянулся, тут же и испарились. Внезапно перед государем выросла каменная стена, уходящая в пустынное занебесье, по ней вилась тонкою паутиной черная шаткая лестница.
И только царь вознамерился ступить на перекладину, как вдруг оттолкнул его неведомо откуль взявшийся раб, иль смерд, иль холоп, иль чужеземец в долгом кафтане, с развевающимися по ветру засаленными волосами; наморщенный войлочный колпак едва прикрывал темя. Беглец мельком оглянулся, и презрение выказалось в черных влажных глазах. И тут же, не мешкая, человек полез лестницею вверх; перед глазами царя замелькали стоптанные, с истертыми гвоздями подошвы. Каменная пыль сыпалась в лицо государю, и он тщетно уворачивался, прятал глаза, чтобы не ослепнуть. Торопясь оба, они понимали, что там, со взглавия стены, откроется им иной, новый мир, где и наступит спасение. Неведомый челядник первым достиг верха, одною ногою ступил на площадку, а другою встал на плечо царя и, воздев руки в кроваво-мглистое небо, вскричал победно: «О, Ие-го-ва!..» И тут царь понял, что настал его последний час; едва цепляясь за поручни, он обреченно воспринял, как непослушно слабеют пальцы, наливается тяжестью тело, уже готовое к смерти. И взмолилась страждущая его душа: «Господи, спаси и помилуй!» И неведомо откуда донесся совет, слышимый лишь государю:
«Отклони плечо, государь, отклони. Вражина и сверзнется». Царь удернул плечо, и торжествующий враг сорвался в пылающую бездну, и развевающийся кафтан над пламенным прораном показался царю черным опадающим крылом. Где-то внизу сатанаил, однако, схватился за лестницу и вновь упрямо полез вверх, а государь лежал на стене и, не испытывая победного чувства, с каким-то ободрением ожидал настигающего неистового человека. Он даже различил усмешку на змеино растекшихся губах, и жадно вздрагивающие ноздри с истекающей ко рту сукровицей, и взблески огня в напряженных, бесстрашных глазах. Царь хотел было подняться на ноги иль взглянуть по другую сторону стены в иной, неведомый, радостный мир всеместного блага, куда так стремился, но, лишенный сил, распластанный на камне, не мог он ни покинуть врага, ни усладить прощального взгляда обетованного землею. И тут супротивная рука настигла и ухватилась за рукав царской шелковой ферязи, рука худая, жилистая, с крупными катышами козанков, обметанных рыжеватой шерстью, с россыпью ржавых веснушек.
«Ах, царь, русский государь, ну воспротивься же ты алгимею, – вдруг кто-то невидимый снова насоветовал жалостно. – Хочешь боротися, так смотри врагу прямо в очии. Бесстудный ворог боится упорного взгляда».
Послушался молодой царь и с упорством взглянул в злые встречные глаза, и скрюченные пальцы недруга сразу потеряли всякую силу, и рука, больше смахивающая на растопыренную лапу ворона, отступила. В глазах неведомого алгимея увидел государь растерянность и страх И жалостно вздохнул государь и тут проснулся.
Италиянские напольные часы показывали четыре пополуночи. Откинув кисейный запон, царь прошлепал к окну. Влажная от пота ночная сорочка прилипла к лопаткам. Царь тоскливо вздохнул, отбрасывая наваждение, и словно бы невидимые токи пронизали дворцовые службы. Чуть свет встает государь, и вместе с ним подымается ежедень вся православная земля. Захлопали во дворце двери, всяк побежал по своей нужде, кто в заход, а кто в службы, заблистали от фонарей и свеч, от топящихся печей стекла и белужьи паюсы, слюдяные оконницы и бычьи пузыри, запахло первым дымом, стряпнёю, далеко пока до благотворного солнца, где-то в Япанском море залежалось оно в своих постелях, не спеша радовать приветного, ждущего русского сердца. Засуетилась по двору скорая на ногу челядь, не дожидаясь окрика дворецкого, заспанная, вовсе отупелая от раннего часа, пока-то апрельский сквозняк пробьется сквозь котыги и исподнее к замрелому телу, в самые шулнятки и пробудит их для жизни. Вздрогнет тут русский человек, переберет плечами, растерянно поведет очами окрест, торопливо перекрестится и проснется. А на главу Ивана Великого уже пал желтый просверк близкой зари; монашествующая братия отошла в церкви, к соборному петью, продевая ноги в кожаную шлею, пристраивались звонари, дожидаясь сигнального колокольца. И к Годуновскому колоколу-батюшке, всеобщему будильщику и раноставу, сошлись все трапезники, числом тридцать, окружили Филаретову башню двумя дружинами, разобрали постромки по обе стороны очепного колокола на Соборной и Ивановской площадях, а иные поднялись на ярус да оттянули великаний голосовой язык. Вот-вот разобьют темь, погонят прочь дьяволовы орды, всю сатанинскую нечисть благовестники, завторят им колокола красные, заподыгрывают малые зазвонные. Запоет Кремль пробуждение во все голоса и, прослушав их зазывистую силу и уряд, испивши такового хмельного напитка и распрямивши стан свой, на весь Белый город, да что там, на всю престольную, считай что на безбрежную Россию уронит бас свой Годуновский колокол. Вот тогда-то, почитай, и восстанет из ночи, как из смерти, вся Божья земля.
Эй-эй, кто там замешкал? Елико до чьей-то немотствующей души не добудится, не дозовется трубный глас «Реута», тому и не едать райского винограда. Скоро-скоро подзадорит вас медное петье, подобьет пятки, да так, что и в пляс пустишься: «Жи-вей жи-ви, жи-вей живи». – «Жи-ву, жи-ву, гля-жу, гля-жу». – «Го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли, го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли». – «Голи-ком прит-кнем».
И вот кремлевские воротники у башен, поднявши решетки, распечатали улицы, в соседней с опочивальней комнате взбодрилась сторожа – шестеро преданных спальников, насуровились на спальном крыльце оружные истопники, приглядывая в оба глаза за шустрым народишком, как бы не проскользнул меж челяди смутьян, ярыжка, гилевщик иль надоедный проситель, и каждодневную справу погрузил на плечи весь дворцовый служивый люд из приказов казенного и сытенного, кормового и хлебенного, житного и конюшенного – вся эта челядь, близкая и дальняя, стремянные конюхи и сокольники, певчие дьяки и священницы, сытники и винокуры, пивовары и бочкари, пекари и дроворубы, мовницы и прислужницы.
А пока тихо в Кремле, кишение огней безмолвно и призрачно. Царь молиться пошел.
«Не так ли и при конце света? Тьма провальная, а на дне ее жупел, смрад, тля и черти смолу кипящую мешают, – печально подумал государь, вглядываясь через веницейское цветное стеколко в оживший двор. Он вдруг почувствовал себя старым, отяжелевшим, усталым, большое его тело налилось свинцом. – Дал Бог свидеться с антихристом, а я дурак! Экий же дурак, право дело. Бог меня на поединок содвинул, а я обличье у вражины забыл».
Алексей Михайлович встряхнулся, опомнился: стоял он у окна в одной ночной срачице до пят. Верх думает: де, государь в Крестовой палате поклоны бьет, а он ныне душою упал. Оглянулся царь, насуровился, содвинул широкие шелковистые брови, но из-под приспущенных век сочится грусть. Готовно, дожидаясь повеления, вскочил с лавки гордоватый боярин Зюзин, ухвативши серебряный крыж сабли; земно поклонился государю всегда учтивый и богомольный постельничий Ртищев, смолоду шадроватый, с каким-то бабьим рыхловатым добрым лицом; но всех опередил ключник Богдан Хитров. Часто заглядывая царю в глаза, облачил его в шелковую расшитую сорочку с жемчугами по вороту да однорядку темного английского сукна, натянул на ступни бархатные червчатые башмаки, унизанные дорогими аксамитами. Был Богдан с бритой бородою, усы тонко выстрижены над губою, на шее под ферязью, скрученный в жгут платок из турской фаты. Когда убирал Богдашка государя, не остерегся, дохнул опрометчиво табачиной. Еще смутный от сна, разгневался государь, белое лицо пошло пятнами.
– Ты что, сродит, Бога не боишься? Табаку за губу кладешь или в ноздри пьешь? – спросил вкрадчиво, боясь промахнуться, но досада на постельничего уже помутила разум.
– Прости, державный свет. – Пал на колени Хитров, поцеловал государя в бархатный башмак. Царь, не сдержавшись, пнул спальника, угодил тому в лоб. Хитров завалился на спину, осоловело взмаргивая, а в лице ни тени страха, а в простодушных голубых глазах дрожит далекий смех.
– Ну годи, холоп. Я тебя нынче же прошу калеными щипцами, видит Господь мое терпение. Вот напущу на вас указу: кто табаку пьет за губу, тому губу долой, а коли нюхает, нос резать. Иди да скажи первому боярину, что я тебя в тюрьму на казнь сослал. Поймешь, каково без носу-то жить. Ужель не ведаешь, выродок, что табак – чертов ладан? При чертове ладане Бога-то разве вспомянешь? Смердящая воня за версту, а он после Евангелие целовать, отступник. От твоей вони мне нынче и наснилось, заплутай и вор! – Государь кричал, с каждым словом вбивая кулак в кожаный подлокотник кресла. Хитров оставался на коленях, покорно склонивши голову, на темени меж рыжеватых кудрей уже пробивалась лысинка с голубиное яйцо. Царь, остывая, и в эту плешинку щелканул наотмашь. Боярин Иван Зюзин злорадно прыснул, особенно презирая выскочку. Царь метнул на спальника досадливый взгляд, и боярин поперхнулся.
– Прочь с глаз, шелудивый пес. Тебя бы не руганью, дубиной потчевать. Даже волос бежит прочь с твоей глупой башки. Вот велю нос резать да пушу в народ для острастки.
– Прости, милостивец, прости, царь-свет, прости, батюшка, дурака. – Богдан Хитров с каждым словом земно кланялся, с розмыслом отступая: опрометью вон из спальни постельничий не спешил, он вроде бы дожидался прощения, отходчивой минуты, чтоб запросить и получить милости. Втайне-то Хитров боялся государева гнева, остерегался попасть под горячую руку, оттого и нехотя, но пятился к двери, однако не позабывая метнуть исподлобья наивный обиженный взгляд. Ртищев со страхом подглядывал за ослушником, и ему казалось, что спальник играет с огнем.
По взмаху руки Ртищев отомкнул спальную палату, и Хитров выкатился прочь, вроде бы позабыв плотно притворить дверь.
– Ну и заплутай, ой, заплутай, – огорченно развел руками государь, как бы извиняясь за сердечную слабость: он чуял, как жалость уже прокралась в сердце, и Алексей Михайлович готов был простить неслуха. – В юзы его? Дак вконец порченый. Отцу возвернуть с виною, дак и сам тот байник, пустослов.
Зюзин кашлянул, готовый поддакнуть, но Ртищев осек боярина взглядом. Царь еще помедлил, погрузившись в себя, сказал раздумчиво: «А ведь, робятки, антихрист нас ловит. Видит то Господь и поопасает нас. А мы неслухи, право слово».
Царь прошел в соседнюю прихожую, где ночевала на-пересменку верная стража из окольничих и стольников. Царь шел мягко, неслышно, заметно косолапя. Он рано раздобрел, раздался в плечах. Спальники при виде государя вскочили, отбили поклон: на лавках лежали винтованные карабины и пистоли в ольстрах, кожаных чехлах, изукрашенных золотыми травами. Богдан Хитров был тут, так никуда и не делся из Верха, знать, не спешил, негодяй, с винами.
– Поди к матушке-государыне, холоп, да справься о здоровье, – повелел Алексей Михайлович, давая понять, что пока простил окольничего, любимца боярина Морозова. – А сосательную трубку вместе с табакою кинь в заход. Иначе не будет тебе моей милости.
...А отправился государь тайными дворцовыми переходами за ответом к духовнику своему Стефану Вонифатьеву, известному ученостью своею даже в Царьграде...
Хранил царя, следуя неотступною тенью, оружный молчаливый жилец. Царь замкнулся в себе, и посторонние сейчас мешали ему. Пора бы по времени в Крестовой быть да грехи замаливать, но сон ровно бы мешал жить. В каменных глубоких полицах и над каждой дверью на божницах стояли образа, горели под ними лампадки. Царь всякий раз перед иконою молился, подправлял фитиль, снимал нагар иль заживлял умерший огонек вновь. Дверь духовника была полуоткрыта, оттуда пробивался в сумерки коридора свет, в келейке о чем-то взволнованно спорили. Государь кашлянул виновато, уже досадуя, что у Стефана гости.

