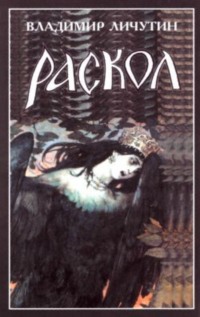
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
… Вот он, грешный ветхий человек, и на конце света при последних летах донимает меня. Невольно вздохнул Никон. Рядом пыхтел Флавиан, тащил на горбе пуда четыре рыбы, да и у Никона торба невпусте, давит на крылья, выжимает соки. Ряса на вате встала колом, гремит при каждом шаге; вот и луна вылилась, узенькая, серпиком, последние снеговые заплатки заголубели, и розвесь березовых ветвей, отпотевших днем, сейчас заискрилась, унизанная густым алмазным крошевом.
… И где дворцовые потехи, игра ума и кудесы сердца? Душа в суете, как зобенька берестяная, все гожее вытечет вон, не ужмешь в запасец…
… Это Господь родимый меня милует, протянул руку и спас, услал сюда.
И снова вздохнул Никон и неведомо отчего всхлипнул. Глухо закашлял, сглатывая слезу.
В Святых воротах горели ночные фонари, доправленные тюленьим жиром; вахтенный стрелец сквозь решетку выглядывал подошедших, а узнав старца, облегченно вздохнул; слава Христу, обошлось без греха. Пристав уже икру мечет, места себе не находит.
«Прибери рыбу-то, да отдай стряпущему. Там подкеларник разберется с уловом, куда деть. Да неси с поварни, чего потрапезовать, милый человек», – приказал Никон и, пригребая закоченелыми сапожками, побрел к себе в брусяную келеицу.
* * *«Помыкаю им, как работником. А он ведь рясофорный монах, мне совсельник, братец келейный. Захочет – и отбою даст», – туманно подумал Никон о Флавиане и тут же призабыл его.
В клети было жарко натоплено, услужила братия. Еще в сенях кой-как стянул с себя лопатину, остался в одних исподниках. Снял с шестка корчагу, плеснул в лохань, опустил ноги в парящую воду, и так вдруг истомно стало, что едва сдержался, чтобы не вскрикнуть; левое веко задрожало в ознобе, и глаз стал худо видеть, будто бельмо натекло. Над низенькой дверью под притолокой висела парсунка в раме; такая же в свое время была и в келье на Истре. Сидит монах, прикован цепями к камени, и на нем написано: нищета… В слюдяное оконце, сшитое нитками из лоскутьев, взглядывал краешек луны, и блеск ее ложился на картину, отчего лицо старца благоговейно светилось. Тихо было, сонно, оцепенело, и, казалось, келеица походила на янтарную лощеную склышечку, заключенную в темно-синий бархат. Слышно было лишь, как скреблась в запечье мышь, угрызая сухарь, да сухо потрескивала на столе свеча в шендане.
А душу-то бередило тоскою, худое чуяла она, прозревая сквозь ночные стены, как враги сатанинские окружили монастырский заплот, перекинулись через переграду, а сейчас торопливо точат лазы в монашеское житье. Боронися, крепко стой, великий старче, супротив орды!
В окне сблазнило белым, словно бы сплющилась о слюдяную шибку чья-то рогатая образина, оставила по себе запотелый следок. Никон встрепенулся, отчего-то обмирая ужасом и восторгом, скоро метнулся к передней стене, забыв усталь, задернул ширинку, запалил на столе второй стоячий шендан, не прижаливая свечей, и прислушался: в передызье кто-то вкрадчиво прохаживался по хрустящей промороженной отаве, крыкал, булькал горлом, пристанывал, словно изгонял из груди чью-то невинную жизнь, отворя загустевшую от страха кровь на ночную землю. Невидимый порчельник, он сейчас кровавым лезом проведет на стене разбойничий крест, той окаянной чертою разоймет насквозь бревенчатую чернецкую скрыню и незримо войдет в келью, такой чародей и проказник.
И воистину дверь в сенях со скрипом отворилась.
Никон, целуй вериги, обметанные седым медвежьим волосьем; обхвати пуще древко креста, чтоб не унес в тартары черный хвостатый вихорь! Это на людях ты патриарх и великий Отец, но в глухой северной келье ты лишь смятенный бессонный воин, осажденный всей подземной вражьей силою.
… А вошел Флавиан, улыбчивый, простоволосый, с зоревым лицом, будто испил в укромном месте с братией ковш браги; с пристуком поставил на стол горшок с ушным – горох с лапшою, чашку соленых огурцов да репы печеной и кружку квасу; из зепи на груди добыл однорушный ломоть ситного. Сказал, не замечая заметели в глазах Никона: «Ешь, батько! Самая то нажористая еда. Хотел икоркой постной потчевать, да ишь ли, не ко времени, богоданный». – «А ты никого не приметил у кельи, бродника какого? Вроде бы кто домогается нас?» – «То стрелец Петрушка помочился на угол, такой бесстыжий. Всю келью обос… Я его прочь погнал, озорника. Не нашел себе другого места… А что, батюшка, ино тебе худого помстилось от натока крови? Сам себя изводишь трудами не жалеючи, до изнеможения сил».
Никон не ответил на укоризны, опустился на лавку, раскорячил ноги, близоруко разглядывая расплющенные ступни с простудными розовыми шишками и с бахромкой отжившей кожи на пятках. Флавиан склонился, без просьбы вытер Никону ноги полотенишком и только взялся за лохань, чтобы выплеснуть воду у крыльца, как дверь в сени самовольно приотпахнулась, показалась кулижка вялой, в измороси, травы и горбушка насквозь пропеченного снега. Сквозняк протянул по клети, пламя свечей круто изогнулось, но не умерло, оживело вновь.
«Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас!» – раздалось из темени.
«Аминь», – облегченно отозвался Никон, уже готовно принимая незваных гостей; какие бы ни случились отчаянные разбойники и побродяжки, но для скитского всяк православный – посланец Божий.
Кто-то невидимый простудно бухнул в кулак, из ночи, опираясь на дорожную ключку, вытаился высокий пригорблый монах в дорожном кафтане и черном куколе на голове, низко надвинутом на глаза; наружу выставал лишь покляповатый вислый нос и клок сивой бороды. Провожал чернца ражий детина в рясе с чужого плеча и суконном колпаке; на плутоватом рябом лице угрозливо посверкивали крохотные свинцовые глазки… Экий варнак, право; ему бы шестопер в руки да в засеку на разбойную тропу.
Никон досадливо сморщился при виде поздних гостей; уж больно развязны они, как в свой дом вошли, незваные, и чужого тепла не берегут.
– Притужни дверцы-ти, милок! – прикрикнул. – Не лето на дворе.
– И Сын человеческий пришед на землю и не всяк узнает его, – буркнул, не подымая глаз, высокий пришелец, скинул в угол сеней дорожный кафтан. Его сотоварищ остался в сенях, притулившись к ободверине; от него ощутимо тянуло злом.
– Много бродит на земле схитников Христова имени. Не из тех ли и ты, поздний человек? Ну, да ворону не достичь широты орла. От скверны и падали пучит брюхо…
Гость дернулся на язвительные слова, сверкнул взглядом, длинная плешь налилась кровью.
– Братец, помоги сдернуть сапожишки, – попросил святой старец Флавиана. – Гостя потчуют не с языка, но из хлебной чашки… Ко времени подгадал, добрый человек. Как поглядел. Ушное-то простыло. Я и сам, признаться, изгваздался за день-то, живой мясинки во мне нет. Только думал похлебать чего, да ноги растянуть до часов, а ишь ли, Господь-то и спросылал во трапезу дорогого гостенька. Гляжу, издалека претеся? От кого бежите иль кого догоняете, милые?..
Многословьем Никон запирал в себе тоску и тревогу; давно ли едва приплелся с трудов в монастырь, но сердце-то пело Лазаря, и скитское уединение чудилось давножданным раем, а царева немилость – Господевой наградою. Но за стенами-то монастыря, оказывается, дожидались пустые заботы и долгая бестолочь.
Флавиан сдернул бахильцы, поставил на засторонок печи для просушки, помог размотать сопревшие онучи, подлил в лохань горячей воды. Гость сидел в забытьи, откинувшись головою к стене, призамглив мрелые опустевшие глаза; нижняя губа вяло опала, видны были желтые, стертые, еще крепкие зубы с хищными клычками; белоснежная борода стекала витыми косицами вдоль брыльев, словно бы ее скручивали на горячий гвоздь. Никон с пристрастностью обыскивал лицо пришлеца взглядом и внушал себе, что никогда не знавал его… Богомольник ли запоздалый по весне приперся? иль по нужде болезный человек стоптал сапожишки, чтобы просить у Господа здоровья? иль притащился несчастный грешник в тьмутаракань, чтобы сбросить с души смрадное и наполнить грудь покаянием?
– Не чинися, страдник. Дай монаху исполнить завещанное послушание…
Никон пересел на низенькую скамейку, Флавиан подтащил лохань к гостю; тот дернулся поначалу, как ошпаренный, но тут же и поборол смущение, опустил плюсны в воду, и какая-то спесивость и презрение вдруг проступили на его обличье… Оле, Никон! сколько же всяких православных ног перевидал ты на своем веку, обихаживая грецкой губкою, споласкивая с них тяжкую пыль дорог и земную усталость, чтобы душа утихла: изнеженных, барских с узловатыми от жирной ествы и обильного питья узкими плюснами; и шишковатых, в рубцах и шрамах, мужицких ступней; и мозолистых, в проказе, сбитых до язв и проточин, у нищих и калик перехожих. И всякий раз Исусова молитва, пожирающая бесконечно твое сердце, помогала не видеть бренную ветхую плоть, как бы затмевала от взгляда все эти вулканы и чирьи, плесень и гной, и гнутые по-орлиному, заплывшие перхотью ногти, и черные узлы немощных жил, где уже поселился смертный червь…
Никон увидал шестопалую, узкую, по-женски тонкую, как бы лакированную до блеска плюсну и вздрогнул; он едва приподнял глаза, уже верно зная, кто перед ним, брыластый и лупастый, с белой пролысиной шрама на горбинке носа и брезгливо опущенной толстой нижней губою… Но тут же овладел собой, спросил ровным, незамутненным голосом:
– А я думал, что за варнаки перекинулись через стену? Уж давно вас заприметил и все ждал. Не зря же лезли, верно? Ты что, еще не помер, нечестивый?
– Укуси, коли не веришь, – гость взбурлил ногою воду в шайке.
– Живой, бесенок… Для тебя что, и смерти нет? Слышал, слышал, как на Суне-реке у меня под боком чертей тешил, содомит поганый, под иудову пяту православных сбивал.
– Успокойся… Будет брюзжать-то. Чай, не помнишь, что не простой человек пред тобою. С мудрым я мудрый, с князьями – князь, с простыми – простой, а с моими недругами рассудит меня сабля…
– Но давал же ты, нечестивец, причащаться сушеным детским сердчишком? Сколько слухов про то ходило…
– Не верь басням, патриарх. Где-то чихнуло еще, а за версту уже молвят: де, помер. Пустой наш народец-то, легковерный. С тем и живет.
– Лучше бы ты сдох, Голубовский. И чего маешься?
Лучше бы тебя грозой рассекло иль саньми стерло на раскате, чтобы скорее закопать подальше от людских глаз, – сокрушенно прошептал Никон, не выбирая слов.
– А-а, помнишь меня! Не забыл святаго? – воскликнул ночной гость, проглатывая обиды. – Но признайся тогда, Никон, почто терпишь меня? Почто не выдашь в расправу? Да и то сказать, за что меня мучить, праведника?
– Правед-ни-ка-а, ха-ха! – передразнил Никон и невольно рассмеялся. – Да дьявол ты, дья-вол, моя вторая половина… Знай же, алгимей, я помру и ты не заживешься, уйдешь следом, не замешкав. Так и запиши себе в помянник, чтобы не забыть, и следуй за мною. Никак не изжил я тебя, сатаненок, – вдруг признался старец в самом сокровенном, не устыдясь сторонних ушей, выдал то, чего не доверил бы и отцу духовному. А может, минуты той не случилось? Вот тлела болячка воспаленно с давних пор; может, и с самого рождения, а тут и прорвало вулкан от долгой надсады, и как бы мельничный жернов скинул с плеч, так легко стало Никону. И добавил, повеселев: – Вот и терплю тебя, вражий сын. Дожидаючись смерти, терплю. И не странно ли?..
Голубовский не ответил, но хранил на губах усмешку. Никон близоруко всмотрелся в сумерки сеней и, притушивая ненужный утомительный разговор, окрикнул атаманца, что угрозливо маячил у двери и метал в келейку досадливые взгляды. Время поджимало, и до третьих петухов надо было незаметно сняться из обители.
– Экий сумясок! Иди сюда, ноги ополосну…
– Нет-нет, – резво, тревожно остановил Голубовский. – Ты, Прохор, лучше встань-ка за дверь, да там постереги от недобрых. Я не засижусь, не бойся.
Сотоварищ так же молча прикрыл за собой двери. В келейке установилась тишина. Слышно было, как поддувал за окном ветер-сиверик, промораживал растеплившиеся снега. Флавиан не поймал тайного смысла досужей беседы, бездумно повалился на лавку, натянул на голову кафтан, но насторожил слух на крайний случай, чтобы остеречься от беды; и с этой мыслью вдруг сразу забылся и так громово всхрапнул, что пламя свечей загнулось и ветер с испугу прекратил ныть в трубе.
Никон разломил горбушку наполы, вылил выстывшее хлебово в крынку, помолился и лишь тогда пригласил гостя к трапезе. Голубовский не чинился, с кряхтеньем уселся за стол, отогнул полы просторной телогреи на лисах, расправил бороду, словно бы оберегал от лапши с горохом. Шея у гостя была тоща, посекновенна морщинами, в пупырках, как у отеребленной птицы, и, несмотря на весь богатый сряд, вид Голубовского вызывал жалость… И я экий же? И я нынь, как куриная гузка, иссох и обшелудивел, невольно подумал о себе Никон, прочитывая во взгляде Голубовского сочувствие к себе.
Они молча таскали из крынки густое разварное постное ушное, подставляя под ложку ржаной кус; ели неторопливо, как-то скушно, без азарту, но мирно, как братовья иль давние друзьяки. Но глаза прятали, будто боялись встретиться взглядом. Никон не допытывал гостя, по какой заботе явился сюда, а Голубовский медлил, подбирал весомые слова. Да и то, не ради же застолья мял ноги от самой престольной, обходя заставы и рогатки, таился дорогою от каждого коньего поскока; особая нужда привела в Ферапонтово в самую распуту к опальному патриарху.
– Не тридцать ли лет минуло, как ты вытянул меня за волосье из морского рассола и от верной смерти спас?
– Не я спас тебя, Никон. Я лишь руку протянул. Это мальчонка белесенький и жалостный, ну чисто ангел, вымолил: «Господи, спаси нас, юродом стану…» И неуж не помнишь его, старец?.. Он-то слово свое исполнил, стал юродом Христа ради. Был такой, Феодор Мезенец, ты его по застенкам таскал и всяко мучил. Так-то вы любите праведников…
Никон смутился, напряг память; прояснилось, как бы нарисованное на слюдяной оконной пласти, гневливое северное море в сполохах и водяной мороси, молчаливая гора с белым пламенем гребня, вздымающая голову в самое небо, бисер пузырьков, сбегающих по отрогу, карбас, вдруг вставший торчком, готовый опрокинуться в кипящий морской проран, полный водяных и русальниц… Еще мужик на корме, с изъеденным до кости лицом, в белой смертной рубахе, что-то вопящий в эту бестолочь крайней на миру минуты… Но постойте, разве был там и мальчишка? Разве был голубоглазый ангел, слетевший с помутившихся небес, глас которого вдруг расслышал Спаситель??? Боже правый, да не мог бы я забыть такого. Не смог бы я забыть святого человека, голос которого достигает Господевой груди…
– Ты что, костерить меня явился? Судом судить? Ну забыл, не помню! Может, наврал все, – резко оборвал гостя Никон; прежние неисполненные обеты тяжким грузом висели на сердце, вдруг напоминая о себе. – Я же сквитался с тобою. Я твою голову от плахи отвел, басурман, а ты все еще выгоды от меня ищешь…
– Ой, бывый, ой, старче, – укоризненно покачал головою Голубовский. – Вот и у тебя, святого старца, в груди червие. А всё от сидячей жизни. Ну бывает, не гневись, милый. Эка невидаль. Вот и у меня нынче мох в голове. Ино загудит в черепушке, будто свирели да накры заиграют… Был, был отрок-то, а после вырос и тебя в Устюге зарезать хотел. С ножиком на тебя, да ишь ли, спасли благодетели. Иль не помнишь? А я его выкрал от твоей пытки. Ты его сапогом хотел. В лицо метил… Ежли найти вздумаешь, я помогу. Вот и станет святая троица: Бог, Сын и Святой Дух…
– А где же Дух-то наш? Духа я никогда не попинывал, дерзости подобной за мной не водилось, – скрипуче, с натугой рассмеялся Никон, расслышав из чужих уст подобную ересь. – И для Бога я не годящ, тварь земная. – Он вдруг почувствовал, как стянулась кожа на щеках, будто под палящим солнцем, и лицо ссохлось, стало не более кукиша. Все в нем восставало против непотребных словес, но чем-то сладким, щекотным обволакивало сердце, и против воли хотелось продлить беседу. – Он что, Дух-то твой, расселся безъязыко в земляной яме и оттуда мне показаться не хочет? Хоть бы явил его в обличье…
– Дух Святый живет, где хощет. У него везде дом, всяк оприютит его и в нищей хиже, и в боярских хоромах. И зря ты рыгочешь, патриарх. Тебе-то вовсе не гоже болтать непотребное. Помни, пред тобою человек не простого звания, и по мне на Руси всяк попомнит и через тьму лет…
Голубовский бормотал уже бессвязно, безъязыко, одним чревом, уставив на старца упорный бесстрашный взгляд, словно бы наискивал во вражине становую жилу, чтобы обрезать ее. Слова пришлеца, точно осенний березовый лист, с шорохом осыпались на Никона, погружали его в шелестящую пахучую прелую сыпь. И опасливо было тонуть в ворохе, но и смутно до слезы.
– Ничего не помню, вот те Бог. Отшибло память, – легко соврал Никон, чтобы оборвать словесную толкотню.
И время-то зряшно утекало в проран за окном, елейница призывно подмигивала голубоватым зраком под тяблом, просила старца к себе, чтобы подживить; знать, фитилек повыгорел, или маслице прикончилось… Эх, куда, в какую затхлую бочажину напрасно упехиваем часы, и дни, и лета, то самое сладкое время для молитвы. Перхаем языком, как коровьим боталом, и тем сокращаем жизнь в Боге и обрубаем пути к престолу. И ведь все речи в напраслину, ни слова о деле. Как любим из пустого в порожнее переливать, не зная в том греха.
– Так зачем ты явился сюда, лютый разбойник, на ночь глядя? Ты во чужом дому ширишься, как пристав. Лучше образам поклонись лишний раз, не обломишься…
– Прости, святитель. Прости, патриарх, – легко повинился Голубовский, язвительно улыбаясь. Он жил другими, сокровенными мыслями. – Время подпирает, а я не знаю, как подступиться к тебе, чтобы ладом все дело решить и тебя не пообидеть.
– Вижу, что не для колокольного звону в экую даль волокся…
– Да и не один, – многозначительно протянул гость и вдруг откинул полу меховой телогреи, вытянул из тугой кобуры длинный двуострый кинжал с рукоятью из витого рога, в коий был хитро вделан стволик шкоцкого солистра.
Голубовский положил оружье на стол, уставив пистоль в грудь святому старцу. На испуг брал. И все прежние, вроде бы бестолковые, ничего не значащие речи сразу обрели грозный смысл. Никон бы не удивился сейчас, если бы гость достал из-под стола гранатную пушку иль крепостную затинную пищаль, – такого колдовского, чародейного свойства был этот человек.
Да и то подумать: однажды Русью хотел завладеть из чужой стороны, сесть на державный престол, схитить власть, – и сносил ведь голову, отчаюга; после и скит еретический завел на Суне-реке, приклонившись под Иуду, и много оттуда расползлось по весям проказливых шпыней, но и тогда уцелел толковщик; сейчас новый умысел против царства задумал, замесил теста в квашне, чтобы навалять кровавых хлебцев, но и ныне при крайней минуте, когда прижмут, изловчится и скинется в иное обличье, да и унырнет в дикий суземок под еловый выскеть…
Никон не испугался кинжала, накрыл лезо ладонью, мысленно примерил: при случае железо пронзит насквозь. Взвесил в руке, из стволика достал свинцовую заглушку, круглую пулю выкатил в горсть, поняньчил. Сказал раздумчиво:
– Господь, Отец наш небесный, даровал жизнь нам как великую ценность, а ты метишь чинжалом в явленный Христов образ… На-на, испей моей кровушки, коли такой смелой. Ну?!
Слова были тихие, но внятные и бесстрашные. Флавиан оборвал храп, в испуге скинул с головы зипунишко, повернулся на другой бок. Голубовский торопливо обернулся, монах смежил веки, притворился спящим. Гулебщик понизил голос, перешел на шепот:
– Не обижай меня, старче. Я так ли люблю тебя, мой Свет. Хошь, и ниц паду. Я лишь мечтал о государевой стулке, бесталанный, а ты им стал. И вся Русь пела тебе аллилуйю. И как скинули тебя нехристи с престола и вырвали посох из рук, так многие тогда восплакали, потеряв надежу свою. И многие иные порастерялись, занедужели душою, упали в проказу; другие же сошли с пути, а многие и вовсе махнули на все рукою и прокляли Господа Бога, который не постоял за Отца отцев… Не один я ныне к тебе приплелся, Отче, но с целым войском, чтобы в золотой колеснице увлечь на Русь, где заждались православные. Миленькой, великий Государь, и неуж ослаб ты сердцем, разжижнул, как тесто, что позволил ворогам усестись вкруг царя? Мир плачет, вопиет к тебе: «Очнися, Отец, прииди и правь нами!..» Слышал я, что рысь голодная, этот жалкий пристав Наумов, всяко честит тебя и пинает, не щадит твоего святого образа. Лишь вели словом-полсловом, и мы нынче же четвертуем его и голову посадим на пику в назидание сущим разбойникам…
Двести человек со мною. Они стоят табором под Кирилловым монастырем, и завтра ввечеру мы станем зорить его, заберем казну, и пушки, и коней, и съедомый товар, да и побежим к гулящим на Волгу, где Божий человек Стенька Разин с тьмою людей вольное знамя вскинул… Сыщется ли еще такое времечко, чтобы отомстить подпазушным псам, что отеребили твое крылье и посадили на чепь. Они Солнце наше решили накрыть с головою рогозным кулем, очернить наговорами. А ты и сквозь теснины прожигаешь наши души пламенным мечом… Солнышко, Свет наш неугасимый, очнися, сорвись с затхлого места…
– Снова на царя взнялся, идолище поганое? Забыл, нечестивый, как на коленях предо мною елозил, молил пощады? – вскипел Никон, приподнялся над столом, грозно вскинул кулачище, обметанный седатой шерстью, расседавшийся от воды и рыбьей слизи, словно бы собрался расколоть бедную голову татебщика как грецкий орех.
Голубовский невольно сжался, слинял лицом. Но лишь на миг выказал слабость, сразу выправил стан, гордовато вздернул посекшуюся снежную бороденку. Он искал верных слов, чтобы ответить упрямому старцу, так подкатиться под него, чтобы и внезапную бурю утишить, и сердце разжидить; умаслить лестию; не может того статься, чтобы за два года затвора вовсе искипел Никон, позабыл обиды, поиструх памятью… Э-э, не такой он человек, чтобы разом и навсегда простить обидчика своего: местью живет, местью и душу поит.
Никон же горбился над столом, неловко вжавшись в кромку животом, и под простецкой рубахою, под распашным воротом, съехавшим набок, показался крутой лемех ключицы, кожаное оплечье вериг и обвершье медного осьмиконечного креста, словно бы навсегда впаявшегося в подвздошье; монах искал в лице гостя подвоха, страсти для себя и всполошливо нашаривал верных слов, чтобы не угодить впросак. Ведь не у тещи в гостях, а за приставом в тюрьме; тут каждый угол имеет верного соглядатая, и нынче же Наумову станут известны тайные их речи… Ах ты, Боже мой, угодил в историю как кур в ощип. И вдруг как змеей-медянкою ужалило: а что ежли скинуться на Русь, вспомнить прежнюю волю и власть, собрать ватагу и двинуть на Москву?! Трепещите, блохи подпазушные! Ай да и мыши, как вы смелы по сусекам, когда кот спит…
Никон засмеялся, грузно опустился на лавку, приспрятал в ладонях лицо. Сказал, прокашлявшись и окстив рот:
– Сватушка, ночуй. Вот твоя шапка и рукавицы…
– Значит, гонишь?
– А как не гнать-то? Явился незваный, бежал неузнанный… Я своему государю не враг, чтобы злодея покрывать. Что ты, Голубовский, как мышь в подполье, скребешься да точишь, выгрызаешь углы? Сквозняки в Дому-то, и сколько неведомого гнуса налезет в дырье. Живи тихо, прошу тебя, замаливай грехи, да благодари Господа, что жив пока…
– А может, я жить не хочу в грязи и неволе? Может, я хочу давить боярскую платяную вошь, что села на плечи. Может, я не хочу из-под жирных свиней лайно выгребать. Чем они лучше меня? Своей родовой кичатся. А я и сам царского звания или ты этого не помнишь?!
– Тихо ты, тихо… Сколько от тебя грому да гряку, орешь, как в диком лесу, – остерег Никон и больше не дал гостю непрошеному рта открыть. – Двести разбойников к нам приволок, по ком давно топор скучает. Ты их в церкву, на покаяние, пока не поздно, слышь? А ты с има, бродяга, лукавец и притворщик, враг рода человеческого. Какую злую дань платишь сатане своему, нечестивец? Ну как не поверить тут, что причащал паству детским сердчишком? Как Ирод-царь, сбиваешь под себя заместо тронной стулки гору человечьих голов… Ах, проказник, ну, шиш болотный! Как только тебя земля носит! Да провалиться тебе в тартары, да не избыть огненных бань; уж готовы гулять по твоим бачинам пламенные веники. Преизрядно заготовили вичья подземные сатанины слуги в злокозненных своих лесах…
Ишь, он ко мне двести разбойников приволок. Вор, он и меня в воровское дело поманывает. Кто я тебе? патриарх иль собачья щень, чтобы испытывать меня посреди чужой беды?
Голубовский пытался что-то ответить в оправдание себе, но опальный старец, севши на своего сутырливого конька, давай его погонять по словесным лугам. Тридцать лет не видались, пора бы чернцу на лавку осесть гузном, ан нет, у Никона сердечного жара еще не на один вселенский костер сыщется…
Ах, кабы сманить его в понизовья да повенчать с Разей, уж какой бы славный союз получился с казаком, и тогда вся-то Русь качнется от края до края; и все поместья можно пошерстить, вотчины попалить, боярские головы насадить на пики, дворянские животы развесить по березовым рощам на радость воронью, а всех приказных, нагрузив полный дощаник, спустить вниз по Волге на корм рыбам.

