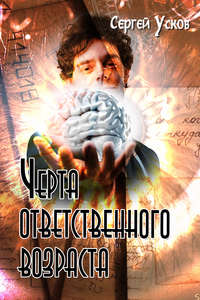
Черта ответственного возраста
– Не жизнь, а малина! Но чего-то тебе не хватает. Может денег?
– Денег, известно, всегда не хватает. Пенсию вроде исправно платят, да мала пенсия, гроши какие-то. Как её получу, пенсию, делаю расчет в тот же день, как дожить до следующей пенсии, сколько в день тратить рубликов будет позволительно. Еще и в заначку положить требуется, хоть самую малость, но положить.
– Хозяйственная ты, бабушка, предусмотрительная. А я было подумал, что спишь целыми днями, с боку на бок переворачиваешься.
– Сплю поболе, сынок, чем раньше. Молодой была – целыми днями робила, думала, отосплюсь на старости. Вот пришла старость – спится да не так. Жить осталось может несколько годков… жалко умирать, хотя и жизнь подлючая чаще. Раньше сила была, так копейки получали и в одежке одной десятками лет ходили, война, разруха, потом вроде как жизнь справилась – опять какая-то инфуляция! Откуда она взялась, кто её придумал? Говорят, чтобы русский народ по миру пустить всё это придумано, чтобы сгинули; так фашисты от евреев освобождали землю… Однако и её пережили, нынче гляди: машин сколько, ровно ходить разучились, через дорогу не перейдешь. Соседка моя шкаф деревянный купила, дак он дороже коровы!.. Скоро уж придем, вот и улочка наша началась.
– И часто картошку возишь? – зачем-то спросил юноша.
– Да где часто, нет не часто, – сказала старуха и, помолчав, лукаво прищурилась, воровато насторожилась, успокоено обмякла и тихо прошамкала:
– Картошечку энту я с базы слямзила, стибрила получается. Мы с Анисьей, соседкой моей, на четвертой овощной базе, на сортировке картошки робим. Я смекнула: на воротах сегодня как раз Дашка стоит, соседка тоже наша, прихвачу с собой мешочек картошки – что мне, грешной, за него будет? Семь бед – один ответ. Зато с картошкой пол зимы буду. Ноне картошка пятьдесят рублёв за кило! А водка девяносто рублёв! Когда такое было? В войну токмо было такое.
Неожиданная откровенность старухи, её признание в воровстве на грани бахвальства, снова жутким холодом покоробило юношу.
– Так значит картошка ворованная! – Заволновался он, распаляя себя. – Ты, старая перечница, ты – божий одуванчик, своровала картошку! Ты, оказывается, гнусная воришка! И меня втянула в это грязное дело. А я, дурак, тащу, стараюсь. Гуманизм. Милосердие. Сострадание… Эх! слова эти не для нас с тобой. Да и вообще для кого эти слова!? У тебя, наверняка, на десяток таких мешков денег хватит. Но ты и в самом деле расчетливая и бережливая, хозяйственная и смекалистая, предпочла просто-напросто стащить, что плохо лежит. Неужели так просто можно нарушить закон? Не мучаясь, не тревожась. Нет и тени переживаний! Знай же, одна из бед в том, что все мы, россияне, живем не по закону, но по понятиям! Мы делаем то, что выгодно в данный момент, но не как дОлжно по закону, по установленному порядку, по правилам, у которых нет исключений! Понимаешь, нет у закона исключений, – с благородным гневом выпалил юноша.
Несколько мгновений он пристально смотрел на старушку – резко повернулся и зашагал в обратную сторону. Старушка побежала за ним, причитая:
– Сынок, соколик, куда ты?! Разворачивайся. Что за напасть такая!
– Картошку я свезу на склад. А тебя следовало бы сдать в полицию. Вот куда!
– Что ты, сынок? Очумел? Да что убудет с мешка, что ли. Пожалей ты меня старую.
– Ты можешь говорить что угодно. Мне все равно, что ты скажешь. Я знаю: главное – справедливость. И никогда не лгать.
– Ну, чего ради ты взялся мне пособить. Шел бы своей дорогой.
– Дорога у всех одна. Идти по ней надо вместе – иначе будет катастрофа!
– Какая корова? Я ничего не знаю. Я-то причем тут. Да за что мне на старости, да и всегда, всегда горе такое. Почему одни несчастья у меня да труд каторжный, всю-то жизнь маюсь. Ты знаешь, что пенсии у меня только-толечки на квартплату и хватило бы, ежели не субсидии. Ихнею субсидию, чтобы получить – сто раз вспотеть придется, в ножки не одному покланяться. Все мои сбережения сгорели в одночасье – заграбастал рыжий чуб с уральским пельменем, с кого спрашивать? Малая моя заначка – уйдет сразу, как заболею по-праски. Ты бы посмотрел как в мои годы робили, и не платили ничего. Нас баб на лесоповал гоняли. Окопы рыли в полный рост. Мужика у меня убили, брата в лагерях сгноили, из избы моей выгнали новые бары-бояре, землюшку кормилицу отобрали, чтобы хоромы свои барские построить. Козу милую продать пришлось. Скажи, где твоя справедливость? Эх, что говорить, что говорить…
Тут старушка села на снег и заревела навзрыд как малый ребенок, размазывая ссохшимися ладонями слезы по лицу, причитая и жалуясь на своё неприкаянное сиротство, на раздавленные каторжным трудом годы жизни, на своё вековечное несчастье, горе и обиду. Слова тонули в горьких всхлипываниях.
Невыносимо острая жалость к плачущей сгорбленной бабушке невольно охватила юношу. Он скорее подошел к ней, взял за руку и попросил:
– Не плачь. Ну, пожалуйста, не плачь. Будь по-твоему: отвезу я картошку тебе. Отвезу, честное слово. Пойдем же. Хрен тут разберёшься с вами со всеми.
Сказав это, юноша несколько пал духом: тогда и он получается вор, соучастник хищения. Каковы бы не были его размеры – это мерзко, гадко, это падение. В чем же честь? «Во имя чего поступить? – мрачно соображал юноша. – Во имя некоей правды, справедливости? Но где она и в чем? Я был убежден: совесть, честь – это важно. Прежде всего совесть! прежде всего честь! Что в совести суть гения человеческого существования, его происхождения и развитие. Отступать от своей главной сути – значит отступать от данного Богом и равнозначно природой предначертанного. О, жизнь! Как могут быть запутаны твои дороги! Какое мучение может быть жить! Боюсь разувериться в главной идее. Иначе останется – тихо умереть, сгнить заживо. Всегда умирают, когда уходит вера, за ней покидают силы. Мне кажется, я близок к этой черте. Дело, безусловно, не в картошке. Но бывает последняя капля, что переполняет чашу. Считается шизой, своею волей навсегда остановить сердце. А не шиза ли жить и знать, что в тебе умерло всечеловеческое я, угасла божественная искра. Зачем пустая надежда, сопровождающаяся до гробовой доски…Что, если здесь существенен и второй момент: часто бывает и так, что для понимания исключительно важного надлежит испытать смертельный ужас, почувствовать дыхание могилы. Если я возьму в руки пистолет и поиграю им, со взведенным курком, у виска – похожу мгновения по шаткой дощечке над пропастью царства Аида. Пойму ли я еще что-нибудь? В тот момент, когда уже готов буду спустить курок – вдруг отложу выстрел, скажем до утра. Утром погляжу: не дрогнет ли рука по-настоящему нажать на курок. Возможно, вместо былой решимости самоустраниться придет некое философское понимание какой-то истины. Я обрету вновь равновесие и перспективу».
– Бабушка, – произнес юноша. – Раз я дал слово, я сделаю, что обещал. Тебя же попрошу сделать одно одолжение. Скажи сначала, не завалялся ли где у тебя пистолет?
– Чего, чего? Пистолет!? …Откуда у меня и зачем тебе?
– Я, пожалуй, перемещусь в другую реальность: схожу в гости к Богу, или к дьяволу – к кому попаду. Мне многое здесь противно и гадко. Я, как ни прилаживайся, чужой всему. Еще, знаешь ли ты, что когда что-то не сделал, но должен или обязан был сделать, уже падший, уже подлец и вор. И все это копится подобно катящемуся снежному кому. Из мелочей, якобы незначащих, скапливается лавина едкой мути, которая сама отравится и погубит твое естество. Во времена былые, частично и ныне, делом чести считалось смыть позор несостоявшейся жизни, конкретных её обстоятельств, ставящих человека на колени, с помощью пули, отправленной в собственный висок.
– Эх, сынок! Жизнь тебя еще не таким навозом накормит! – качая головой, с укоризной сказала старушка.
– Замолчи, бабуля. Я не хочу приспосабливаться. Да и скоро приспосабливаться будет невозможно: мутации не поспеют за изменением окружающего. На вас уже направлен пистолет, собранный из вашего невежества, сиюминутности, кичливости, самообожания, нескончаемых речей, обдуривающих и усыпляющих истину, рвачества, хамства и прочее. Достаточно еще жирной дурости, которая грузно ляжет на курок – последний выстрел будет неумолим. В какой форме он будет? Всемирный мор от новой чумы, голод, война, глобальный взрыв… Тебе не понять, бабуля, что именно так взыскательно следует жить; не мириться со злом и иже с ним – уничтожать не взирая на лица. Именно так только и можно что-то улучшить реально… Что ты молчишь, бабушка? Еще раз спрашиваю, есть ли у тебя пистолет или нет?
– Есть! – Схитрила старуха.
– Не может быть! – Юноша остановился, посмотрев в упор на невольную свидетельницу его душевной распри. – Откуда?
– От батьки моего остался. Он вишь, в гражданскую Колчака громил, или с Колчаком кого-то громил: запамятовала. Тогда знаешь было такое: сегодня красные придут, завтра белые… Потом время было смутное, что никак нельзя без оружия: то комиссары прискачут, то бандиты наведаются. Вот он приберег пистолет, аккуратный ладненький пистолетик, в деле проверенный.
– Врешь ты! Не верю.
– Вот те крест! – Она перекрестилась. – Однако, особливо не разбираюсь, пистолет ли то? – (она ещё раз перекрестилась, шевельнув губами) – Думается мне, что пистолет. Придешь и сам увидишь
– Может быть, у тебя и пулемет есть?
– Пулемета не было. А вот винтовка-трехлинейка была. Я её на две машины дров выменяла, совсем недавно, когда ещё в избе жила; охотник выклянчил винтовку. Вобче-то был, вспоминается, пулемет – Максимкой отчего-то звали. Как начнет палить: тра-та-та-та – умрешь со страху. Потом начальнички в кожаных тужурках по-доброму пулемет забрали. Остальную мелочевку батяня утаил.
– Ну и ну! Какой системы пистолет?
– Не пойму о чем ты?
– Пистолет – общее название, есть точнее: маузер, браунинг, револьвер, кольт, вальтер, наган…
– А!.. Вон о чем ты! Как будто слыхивала я такие словечки. А вот какая ситсема моего пистоля запамятовала, прости уж старую. Но ситсема хорошая у пистолетика: самая, что ни на есть убийственная, бьёт прямо в лоб без промаха и осечки.
– Даже так! Самонаводящееся? Тьфу, ты! Шутки в сторону. Значит, договорились: картошку заношу в квартиру тебе, и ты даёшь мне пистолет. Кстати, пули-то есть у тебя?
– Есть! Как же им не быть. Этого добра целая коробка.
– Какой калибр?
– Что, что? Опять я тебя не понимаю.
– Размер какой пули?
– О! Размер подходящий: такую дыру, соколик, в башке сделает, что не зашьешь и не заткнешь, все мозги разом вылетают вон.
– К твоему пистолету эти пули подходят?
– Обижаешь сынок. Есественно подходят!
– Пуль-то много. Впрочем, много и не надо.
«Жизнь! – воскликнул в душе юноша. – Возможно, скоро придется прощаться,… Возможно и нет. Я всё ещё не знаю. Грустно уходить из этого мира, не изведав любви прекрасной, любимой и любящей женщины, не испытав себя мужем и отцом, не снискав воинской доблести, не возвысив себя храбростью и отвагой, не узнав восторга победы и горечи поражения. Проклятый вечер! Не знаю, способна ли пуля умиротворить, утишить мучения. Подозрительна сама старуха: пистолет с гражданской войны, хранимый для чего то. Невероятно! Да, верно, и заржавел пистоль этот. Столько лет лежал без дела. А ну спрошу».
– Бабуля, пистолет твой скорее на ржавую железяку похож?
– Нет, соколик. Как можно такое допустить. Что, я не понимаю – такую вещь губить разве дозволительно. Отчего ему ржаветь?
– Все ржавеет, повсюду кислород, который окисляет. Смазываешь ли свою огнестрельную реликвию?
– А ты как думал! Смазываю, дружок, обязательно смазываю.
– Чем смазываешь? – Учинил допрос юноша.
– Вот каким маслом машинку швейную смазываю, тем и пистоль мажу.
– Пойдет. В технике, смотрю, смыслишь малость.
– В деревне у нас ходила такая пословица: я и баба, и мужик, я и лошадь, я и бык!
Старушка повеселела, раздумывая о смешном нечаянном попутчике. «Каким бы был мой умерший сынок? – подумала она. – Без отца бы вырос сиротиною. Ходил бы, мой сердечный, также в сумерках как несмышленый кутенок, выискивая что-то утерянное, выдумывая небылицы… Паренёк этот хороший: добрый, жалостливый, разговорчивый. Зачем он так шибко думает обо всем, так не ровен час глупость отчудить можно, а там и вовсе с дороги сбиться. Сыщу-ка я ему девку умную, простую и честную. Да и искать нечего! Вот месяц назад заехала к нам на этаж дивчина Таня. Из другого города приехала – видно, здесь у нас с работой получше. Вечерами всё дома сидит, в копютир уставившись. Мне очень помогает: в магазин сходит, в бумагах все обстоятельно растолкует. И просто так приветит улыбочкой и словом добрым – тоже сердцу отрада. Сведу я их вместе. Семьей станут жить, чтобы и детки были. Ежели он за общее дело радеет, какую-то правду правильную хочет вызнать – так и здесь семья лучшая опора, не-то один добесится до худого конца или тоска лихая возьмет, затоскует люто. Жизнь вкривь да вкось пойдет. Тут и до большой беды недалеко. Нет, лучше уж плясать от печки. Сначала оженись, обеспечь семью. После уж и думай, для чего еще родился. Домой сейчас придем, скажу ему, что пистолет соседка забрала орехи расколоть, или нет – скажу, что перепрятала, подальше от глаз в сарайке, что в подвале дома, схоронила, а подвал на ночь запирается, ключи у старшего по дому; значится с утра надо приходить. Дескать, прости старую, потерпи до завтра, попрощайся со всеми ладом, и вечерком ко мне приходи за пистолетиком. Сама я Танюшку приглашу, скажу пособить малость. Пока она хлопочет у меня по хозяйству, паренёк этот придет. С ним обмолвлюсь, не гневись на старую, ну никак не могу пистолет отыскать: не девчонке ли дала, под подолом поискал бы у неё (шутка!). Танюшке баю, паренек что-то вроде краеведа, собирает старые вещи, предметы старины, ценности добронравных времен. Вот умора будет! Сведу их, столкую – пусть хоть будут упираться, а усажу рядышком, и чаем напою ароматным. Скажу, сама я вам хочу что-то рассказать, простое и народное. А там и он зацепиться с дивчиной слово за слово, глядишь – приладятся тесно; окажется она лучше всякого пистолета. Влипнет в неё по уши до конца дней своих и себя прежнего забудет. Столкуются, обязательно столкуются, чует моё сердце, что будет так. У Танечки ох, какое сердце доброе! Сама она шустрая и пригожая! Осиротела недавно: родителей схоронила. И паренек замечательный, нельзя таким пропадать. Мне однажды также помогли в трудную несчастливую минуту, очень помогли не сгинуть и не пропасть. И я помогу. Так-то лучше будет».
Снег всё сыпал и сыпал. Так плавно и безмятежно кружились снежинки, что мягкий нежащий покой проникал и покорял приунывшего юношу. Шаг за шагом, минута за минутой, – и пропадала вся суровость снега и колючесть стихающего ветра. Как будто ширилась ночь, светлела, вспыхивала чудесным светом. И стали понятны и снег и ночь. Вдруг в какое-то неуловимое мгновение согласие внутри и вне себя почувствовал юноша, что-то открылось и упало на дно памяти, как падает проросшее зерно в тучную землю, но чему еще нет слов, и что вскоре вырастет и станет ясной строкой в самостийной судьбе… В чистой, как в первозданной тишине, воскрешалась чудесная музыка в кружеве плывущих и сцепляющихся снежинок – эта удивительная музыка, напоминая забытые звуки клавесина, прогоняла смуту, открывала простую и милую красоту в этом обыкновенном снеге, серебристых небесах с блистающими звездами, в свежем морозном воздухе. Сколько же её прибудет – простой и милой красоты – когда сойдут снега и засияет весеннее солнце!
«Зачем я иду за этой бабушкой? Что за чушь я напридумывал! Разве мало безупречной красоты, что хранит природа, и разнесено по частям, по предметам, по людским поступкам, – думал юноша. – Как сохранить эти осколки прекрасного? Как собрать из них добрый радостный мир, пусть для начала в душе моей и близких моих? Как уберечь оставшееся, сохранить, развить, умножить? Сразу и не ответишь. Видно надлежит ещё многое понять и пережить, чтобы выкристаллизовался внятный ответ. Пожалуй, так приходит мудрость. А пока… Пока я сделаю вот что. Приду домой, беру блокнот и записываю несколько правил для себя, чтобы приземлять мечты-фантазии-желания. Основными пунктами будут:
1. Ложиться спать в одно и тоже время, и спать не менее семи часов.
2 Больше физических движений: два раза в неделю встаю на лыжи, покупаю абонемент на теннис. Утром обливание холодной водой.
3. Прежде, чем что-то сделать из желания, основанного на мечте и фантазии, анализирую:
– как должно быть; что хотелось бы видеть;
– что есть на самом деле;
– что можно изменить, приспособить.
4. Любое свое мероприятие планирую с карандашом на листке бумаги. То есть ставлю цель краткосрочную и перспективную. Разбиваю на этапы и определяю, что еще надо, чтобы задуманное осуществилось (развить новую потенцию, изучить и перенять опыт других и т. д.). Результат каждого этапа сверяю с задуманным эталоном – при большом расхождении делаю корректировку.
5. No cigarettes and alcohol.
6. …………………………………………………………
Что же добавить в шестой пункт?
И только подумал о шестом пункте, как небо озарилось вспышкой, словно разорвалась звезда, словно осколки метеорита ворвались в плотные слои атмосферы огненным дождем. Юноша протянул раскрытые ладони навстречу падающим сгусткам небесного света. Вдруг обе руки обожгло. Он увидел темное пятно на правой ладони. Словно это и был шестой пункт, отменяющий первые пять. Это черная метка послана, чтобы сказать, он умер для реальной жизни. Но это не значит, что он самовольно может лишить себя жизни. Это значит, создавай свои миры. Не мучайся непохожестью, не подгоняй себя под общие стандарты. Тогда в реальной жизни для счастья будет достаточно глотка свежего воздуха и солнечного лучика – всего этого добра предостаточно. Вслед за этим придет человеческое тепло. Придёт нежданно, от неожиданных людей.
Чудовище, съедающее заживо
Когда-то у него были быстрые поджарые ноги и сильные умелые руки.
Когда-то у него было превосходно сложенное тело.
Когда-то была необременительная и хорошо оплачиваемая работа.
Было!.. Проклятое слово! Непонятное, мерзкое. Сначала мерзкое… Холод. Мрак. Тусклый свет луны на бескрайном кладбище. Сумрачная одинокая фигура, склонившаяся над свеженасыпанным холмиком, из которого проступают кости прежде умерших. Этим останкам тесно в земле. Они выталкивают друг друга наверх к этой согбенной фигуре. Или кто-то выталкивает. Глухой рык чудовищного зверя слышится снизу… Глухой рык разрывает остатки души.
Когда же случилось страшное? Когда явился этот кошмар? Когда!? Когда он обнаружил, что его одиночество целенаправленно создано, чтобы мурашками ползать по телу и лихорадочным током крови умерщвлять частички своей плоти?
Однажды он взял трубку телефона и услышал искаженный болью родной голос, в котором не утихала любящая поддержка с первых его младенческих шагов. Разменяв пятый десяток, он по-прежнему называл её Мама. Она его любила, обожала и говорила: «Ты можешь всё! Этот мир для тебя! Он твой этот мир. Делай, живи и не сомневайся!» И он делал, и жил, и не сомневался. С ней всегда была ясность.
И вот однажды – холодный пот заструился по телу. В голове впервые молотом застучала кровь, от одной ужасной мысли, что Мама станет трупом. Никто ему больше не скажет: «Ты можешь всё! Этот мир для тебя! Он твой этот мир! Делай, живи и не сомневайся!» Почему вместе с ней уходила уверенность в цельности жизни?
И, может быть, потворствуя столь странному исходу успешной жизни, и предчувствуя смертельный ужас недалекого будущего, последний год он жил по инерции, постепенно теряя приобретённое прежде.
Наспех сколоченный крест Мамы должен слиться с тем длинным рядом крестов, уходящим столбовой дорогой в пространство времени из обычного городского кладбища.
На кладбище тесно. Хоронили на тропинках между надгробиями, хоронили друг на друга, тревожа останки похороненных прежде, и забрасывали свежий гроб землёй вперемежку с полу истлевшими костями тех, кому давно нет имени на этой земле.
Именно так хоронили мать. Он с содроганием смотрел на череп и кости, которые валились на гроб. Ему показался бессмысленным сам гражданский обряд погребения: пройдёт полвека, и останки матери также повалятся на свежего мертвеца, которым будет он.
Отпевание усопшей по православному обряду оказалось невозможным. Как исполнить продолжение того, что и не было начато? Мама была некрещеная, как и он. У Мамы веру в Бога вытравил воинствующий атеизм, у него – приятные мелочи жизни. Тогда мелькнула догадка – вот первопричина воцарившейся жути.
Холод. Мрак. Тусклый свет луны на бескрайнем кладбище. Глухой рык чудовищного зверя слышится снизу, ближе, ближе. Он, оцепеневший у могилы, пробует встать, и глазами, вылезающими из глазниц, не видит места, куда поставить ставшие ненужными ноги. Ужасная мысль, разрезая голову на части, внушает, что дорога крестов, надгробных памятников, начинавшая путь на этом древнем кладбище, как исток реки Смерти, опоясывает Землю спиралями боли и страдания, как коконом смерти, жути, затягивая оконца, отдушины, сквозь которые вливается не впуская Высший Свет.
И наши поминальные свечи, наши прощальные слова, никак не складывающиеся в молитвы и даже его личная главенствующая свеча, окрасившаяся в цвет его и её крови, не утишает боль. Ничто не поможет, ничто не связывается нитью, ничто не проникнуто общим духом. Ещё мгновение – и эти разобщённые куски прежде целого скроются занавесом ледяного дождя забвения.
Удары слабеющего сердца сгущали кошмар и явственнее различали утробное рычание поднимающегося наверх чудовища. В диком испуге согбенная фигура отпрянула от падающего креста, чьё основание подъел неведомый рычащий гад. Истошный вопль разодрал кладбищенскую тишь, и глаза вырвались из сгнившего заживо тела. В ореоле мрака, скрывшего разложившееся эго, эти глаза заворожено наконец-то узрели восставшего зверя с разинутой оскаленной пастью, с вырывающимся пламенем вместо языка, которое медленно приближалось к зрачкам… «Не верую!» – Неслось впереди пламени. «Не верую!» – обречено отзывалось в человеческих глазницах…
Странно, почему это пламя ничуть не опалило, выросший чуть поодаль могилы, смешной цветок мать-и-мачехи? Что за неистребимая жажда жизни, которая попеременно для него и мать и мачеха? Не успеет земля весной толком обогреться, на первых же проталинах поднимается из тех же глубин земли, из которых лезет чудовище, толстый и мохнатый стебелёк. Первым делом распускается ярко-желтое соцветие. Что за огромная сила, что тянет цветок вверх? Не крохотная ли частица той силы, которой проникнуто всё сущее здесь и всюду, которая идет на смену изначальной материнской любви? Той любви, что в разрывающемся горем и призрачным мимолетным счастьем людском мире, пришел утвердить библейский и реальный Иисус, а до него Свет Высшего Знания доносили для «избранных из званных» и Будда, и Кришна, последователи бхакти-йоги…
«Не верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли…» – ревело и буйствовало чудовище. «Не верую!» – вторило то, что осталось от человека.
Адское пламя приближалась к сдвигающимся друг к другу зрачкам. Им уже ничего не суждено увидеть в мире, сотворенном единым Богом Отцом, Вседержителем и пронизанным Духом Святым, что так поздно понимаем, и что есть все то хорошее и доброе, на чём держится мир.
Девушка из цветочного магазина
От порыва северного ветра и на земле перехватывало дыхание. А здесь, на крыше семиэтажного здания, ветер буйствовал с особым жестоким остервенением. Он неожиданно налетал каждый раз с другой стороны, хлестким ударом норовил свалить с ног, толкал, мотал из стороны в сторону, обжигал никнувшее лицо раскалённым металлом.
Женская фигура со свертком, крепко прижатым к груди, в растерянности топталась на месте. Ветер точно гнул её как одинокую тростину в бескрайнем вымороженном поле – сломал, подхватил, бросил на крышу дома, откуда сквозь холодные снеговые тучи взвивается прямая дорога в небеса.
Плотной слой снега, в котором вязнут ноги, когтями держит обречённое тело и каждый шаг вперёд, к краю крыши, лишал последних сил. Ветер то подталкивал её, то возвращал назад и путь, длиной несколько десятков метров, казался бесконечным. Но упасть и замёрзнуть было слишком просто и, наверное, не было уверенности, что именно так и случится. Поэтому очень надо вперед, каких-то два десятка шагов осталось сделать – и вечность, где не будет этой боли.
Время утрачивало привычный ход и переставало существовать для неё, двадцатишестилетней женщины с годовалым ребёнком в руках, как перестали существовать и все другие меры, с помощью которых делается так называемая идентификация себя и прочего, что окружает.
Вдруг ветер стих, показались яркие звёзды, медленно выплыл из гущи застывших туч огромный бледный диск Луны. Мутный отражённый от снега свет обозначил раскинувшиеся внизу полустертые тьмой городские кварталы с мерцающими и двигающимися огнями. Девушка выпрямилась, оглянулась – край крыши был совсем недалёко. Она прижала крепче ребенка и шагнула решительнее к темной полосе обрыва. Ребёнок шевельнулся, пихнул ножкой в живот почти точно также, когда она его вынашивала. Это свежее ощущение всколыхнуло память…