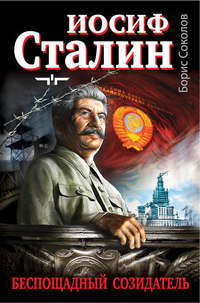
Иосиф Сталин – беспощадный созидатель
Троцкий был едва ли не единственным из советских политиков, кто имел реальную возможность осуществить бонапартистский переворот, но сознательно отказался от этой возможности, исходя из высших интересов революции, как он их понимал.
Между прочим, Зиновьев и Каменев тогда, в январе 1925 года, предложили вместо Троцкого назначить главой военного ведомства Сталина, очевидно, надеясь тем самым ослабить его влияние на партаппарат. Они прекрасно понимали, что Коба не пользуется популярностью в Красной Армии и использовать ее в борьбе за власть в обозримом будущем не сможет. Однако Сталин превосходно понимал все выгоды поста генсека, и честь стать председателем Реввоенсовета и наркомвоенмором решительно отверг. Триумвират фактически распался. Укрепив свои позиции в Политбюро и ЦК, Сталин больше не нуждался в Зиновьеве и Каменеве.
Здесь проявилось одно из важнейших качеств Сталина, которое помогло ему в борьбе за власть, – постепенность. Он никогда не форсировал события, заключая блок с союзниками против того, кого считал наиболее опасным противником в данное время. Затем постепенно укреплял Политбюро и ЦК верными людьми, не игравшими никакой самостоятельной политической роли, чтобы в подходящий момент отказаться от услуг союзников, мнивших себя самостоятельными политиками. При этом Сталин искусно устраивал дело так, что инициатива разрыва исходила от его прежних союзников. Сначала Зиновьев и Каменев, почувствовав, что Сталин оттеснил их на второй план, затеяли авантюру с изначально провальной ленинградской «новой оппозицией». Затем Бухарин и его сторонники выступили против начатой без их согласия «сплошной коллективизации», но легко оказались биты, ибо не имели поддержки партийных масс. Аппарат рассчитывал, что коллективизация только укрепит его позиции. А рядовые партийцы – в основном из рабочих и крестьян-бедняков ничего не имели против раскулачивания, рассчитывая, что и им от этой акции что-то перепадет. Ведь коллективизация предпринималась под флагом обеспечения продовольствием городов и преодоления нищеты в деревне.
31 октября 1925 года, в результате неудачной полостной операции умер преемник Троцкого на посту наркома по военным и морским делам и председателя Реввоенсовета, кандидат в члены Политбюро ЦК РКП(б) Михаил Васильевич Фрунзе. Его смерть породила много слухов о том, что она была неслучайна, а явилась результатом целенаправленных действий Сталина, стремившегося избавиться от опасного политического конкурента.
Надежда Владимировна Брусилова, жена генерала Алексея Алексеевича Брусилова, так прокомментировала смерть Фрунзе в своем дневнике «Мои впечатления»:
«Сегодня утром умер М.В. Фрунзе. Этого давно все ждали, так как болезнь его, по отзывам врачей, была очень серьезна. (Его на днях оперировали очень неудачно). Алексей Алексеевич очень жалел этого человека, так как много раз я слышала от него, что он ему очень симпатичен…
Сегодня звонили из газеты «Правда», прося отзыва Алексея Алексеевича о военных заслугах Фрунзе. Он велел мне ответить, что не может касаться этой стороны дела, совершенно не зная ее, так как в гражданской войне не участвовал, но что очень сожалеет о кончине этого незаурядного человека.
И действительно, вся деятельность Фрунзе была в Туркестане и на юге России, и совместно с ним мой муж никогда не служил. Следить издали или по газетам трудно, тем более, что все эти годы Алексей Алексеевич вначале от раны, а потом от общего состояния много болел и по этим вопросам ничего не читал. Не мог же он сообщить, что слышал о том, будто Фрунзе и Котовский, оба бессарабцы, мечтали отделить Украину, соединить ее с Бессарабией и устроить там правление без Москвы. За что те, кому это не нравилось, одного зарезали, другого убили. И не мог Алексей Алексеевич сообщить в газеты, что о некоторых вопросах с полуслова понимал дело и сочувствовал и одобрял некоторые их планы. (Всего один раз Алексей Алексеевич виделся с Котовским без меня, в Манеже кавалерийской школы. Мне в тот же день говорил об этом один курсант. Я спросила мужа, о чем он с ним говорил, и он очень загадочно улыбнулся: «Почему-то он мне очень хвалил Фрунзе, рассказывал о своей южной кавалерии, о «червонном казачестве». Он толковый, этот бывший разбойник, а я как бывший генерал, вполне его планы одобряю. Ведь эти места Волынской, Подольской губерний, границы Бессарабии, мои дорогие места по воспоминаниям. Но все это еще настолько туманно, что лучше об этом не говорить».) Несколько лет назад, когда по делам наркомата В.П. Засецкий (с семьей В.П. Засецкого мы были очень хороши, но ввиду своего выезда за границу, они несколько отдалились от нас. Мы это хорошо понимали. Алексей Алексеевич говорил: «Не надо им мешать в их хлопотах!») ездил на юг, то вернувшись говорил нам, что слышал много хорошего о Фрунзе и даже видел его, и что он очень хорошо относится к бывшим военным и что он просил передать Алексею Алексеевичу от него поклон. Затем, полтора года назад, когда понадобилось место инспектора кавалерии для Буденного, наконец было дано согласие, после нескольких просьб Алексея Алексеевича об отставке, дать ее ему. Вместо него был назначен Буденный, и в то же время, вместо Троцкого, был назначен Фрунзе…
Когда Алексею Алексеевичу назначили пенсию, то Фрунзе так устроил, что она идет через военное ведомство и будто он не в отставке, а «состоит при Р.В.С. по особо важным поручениям». Когда, вернувшись из санатории «Узкое», Алексей Алексеевич поехал к Фрунзе и спросил его, зачем он это сделал, то он ему ответил:
Вам несравненно будет удобнее быть как бы на службе. Никаких поручений мы вам давать не будем, а в случае каких-либо придирок или неприятностей мы вас в обиду не дадим. Да притом вы можете еще многое сделать, сказал он, понизив голос и внимательно посмотрев мне в глаза, говорил мне тогда Ал. Ал., прося не повторять даже своим этих загадочных слов, которые слышал он от Фрунзе.
И во многих житейских затруднениях нынешнего времени Фрунзе сдержал слово и поддерживал Алексея Алексеевича, чаще всего, когда ему приходилось хлопотать о других. Когда я заболела, и нам стало необходимо ехать за границу лечиться, то Фрунзе все для нас устроил и помог во всех отношениях, даже сестре моей Елене Владимировне дали возможность с нами ехать. Мужа моего отпустили за границу на лечение в Карлсбад, на лечение под личное поручительство Фрунзе перед ЦИКом. Фрунзе спросил тогда Ал. Ал.: «Вы даете мне слово, что вернетесь и едете только для лечения?» Мой муж ответил утвердительно, и дело было сделано. Ал. Ал. говорил мне тогда: «Если он мне поверил, значит, он сам умеет держать слово или хотя бы понимает всю силу его!..»
А затем и ранее и позднее от многих военных и юристов мы много раз слышали, что отношение Фрунзе по вопросу пенсий бывших военных и во многих других вопросах достойно всякого уважения и одобрения.
Вот все, что Алексей Алексеевич знает о М.В. Фрунзе. Но мы с сестрой, лично не зная умершего, подали сегодня частицу об упокоении души «новопреставленного Михаила». Он был коммунист и, следовательно, ни во что не верил, и ему здесь, на земле, не нравились наши христианские обряды, таинства и вероисповедания, но кто знает, может быть там, за гробом, проснувшись, он поймет свою ошибку и будет нам благодарен…»
Супруги Брусиловы, как и многие другие, кого большевики считали «внутренними эмигрантами», равно как и большинство настоящих эмигрантов, мечтали о том, чтобы явился какой-нибудь Бонапарт и их сверг, восстановив историческую Россию, пусть даже без императора, но зато уж точно без Третьего Интернационала. И видели потенциального Бонапарта в любом понравившемся им военном. Фрунзе и Котовский были среди них, хотя ни у того, ни у другого бонапартистских планов не было. Котовский вообще играл вспомогательную роль и был по-настоящему популярен лишь среди бойцов своей кавбригады. Алексей Алексеевич и Надежда Владимировна прислушивались к каждому их слову, ища за ними какие-то скрытые смыслы, которых на самом деле не было. Так, слова Фрунзе Брусилову при проводах на фактическую пенсию – должность для особых поручений при Реввоенсовете, что он, Брусилов, может еще много сделать – это просто дежурная вежливая фраза. При этом и Фрунзе, и другие советские руководители были заинтересованы в имени прославленного генерала, чтобы можно было при случае заявить, что он не коротает время полным пенсионером, отставленным от дел, а, дескать, работает в Реввоенсовете Республики.
Точно так же слухи о том, что Фрунзе и Котовский собирались отделить Украину от СССР и соединить ее с Бессарабией, воспринимались четой Брусиловых как доказательство их стремлений создать жизнеспособное антикоммунистическое государство, к которому постепенно присоединятся остальные части бывшей Российской империи. В действительности, слухи о том, будто Фрунзе с Котовским могут отделить Украину, очевидно, отражали реально существовавший в Кремле план по присоединению Бессарабии. Для этого войска Котовского и, вероятно, Фрунзе, командовавшего тогда войсками Украины и Крыма, должны были временно «выйти из повиновения», быстро, без официального объявления войны, разбить румынскую королевскую армию и, благополучно присоединив Бессарабию к Украине, вернуться в состав Красной Армии и СССР. Но Алексей Алексеевич и Надежда Владимировна готовы были, ради воплощения своих мечтаний, простить Фрунзе и Котовскому и атеизм, и борьбу против царского правительства. А стоило Котовскому похвалить Фрунзе, а заодно и своих «червонных казаков», как генералу Брусилову пригрезилось, что это – подготовка к походу на Москву, и он даже намекнул, что планы Котовского и Фрунзе одобряет. И хорошее отношение Фрунзе к бывшим офицерам и генералам царской армии, служившим у большевиков «военспецами», также истолковывалось как стремление восстановить «национальную» армию. Между тем, и Троцкий, и Фрунзе рассматривали привлечение в Красную Армию царских офицеров как временную необходимость, пока не подрастут свои, «пролетарские» командные кадры. Сразу после окончания гражданской войны царских офицеров и генералов стали массово увольнять с командных должностей в войсках, а с середины 20-х – вообще из армии, оставляя, в лучшем случае, преподавателями академий, институтов и военных школ.
Что же касается Фрунзе, то, вопреки распространенному мнению, на роковой операции настаивали не Сталин и Политбюро, а прежде всего сам Михаил Васильевич. Вот что писал Фрунзе своей жене Софье Алексеевне в Ялту: «Я все еще в больнице. В субботу будет новый консилиум. Боюсь, как бы не отказали в операции». «На консилиуме было решено операцию делать». Михаил Васильевич пишет жене, что этим решением удовлетворен. И ни слова о том, что хотел бы отказаться от операции. Наоборот, он полон оптимизма:
«Ну вот, наконец, подошел и конец моим испытаниям! Завтра (фактически переезд состоялся 28.10.1925. – Авт.) утром я переезжаю в Солдатенковскую больницу, а послезавтра (в четверг) будет и операция. Когда ты получишь это письмо, вероятно, в твоих руках уже будет телеграмма, извещающая о ее результатах. Я сейчас чувствую себя абсолютно здоровым и даже как-то смешно не только идти, а даже думать об операции. Тем не менее, оба консилиума постановили ее делать. Лично этим решением удовлетворен. Пусть же раз навсегда разглядят хорошенько, что там есть, и попытаются наметить настоящее лечение. У меня лично все чаще и чаще мелькает мысль, что ничего серьезного нет, ибо, в противном случае, как-то трудно объяснить факт моей быстрой поправки после отдыха и лечения. Ну, уж теперь нужно делать… После операции думаю по-прежнему недельки на две приехать к вам. Твои письма получил. Читал их, особенно второе – большое, прямо с мукой. Что это действительно навалились на тебя все болезни? Их так много, что прямо не верится в возможность выздоровления. Особенно если ты, не успев начать дышать, уже занимаешься устройством всяких других дел. Надо попробовать тебе серьезно взяться за лечение. Для этого надо прежде всего взять себя в руки. А то у нас все как-то идет хуже-хуже. От твоих забот о детях, выходит, хуже тебе, а в конечном счете и им. Мне как-то пришлось услышать про нас такую фразу: «Семья Фрунзе какая-то трагическая… Все больны, и на всех сыплются все несчастия!..» И правда, мы представляем какой-то непрерывный, сплошной лазарет. Надо попытаться изменить это все решительно. Я за это дело взялся. Надо сделать и тебе».
Фрунзе ничего не пишет ни о каком-либо принуждении, ни о давлении со стороны врачей. Он сам надеется как можно скорее сделать операцию, чтобы можно было полноценно жить и работать.
А вот что говорилось в протоколе вскрытия, которое после смерти Фрунзе провел известный хирург А.И. Абрикосов:
«Анатомический диагноз. Зажившая круглая язва двенадцатиперстной кишки с резко выраженным рубцовым уплотнением серрозного покрова соответственно местоположению упомянутой язвы. Поверхностные изъязвления различной давности выхода желудка и верхней части двенадцатиперстной кишки, фиброзно-пластический перитонит в области выхода желудка, области печеночно-двенадцатиперстной связки, области слепой кишки и области рубца старой операционной раны правой подвздошной области. Острое гнойное воспаление брюшины.
Паренхиматозное перерождение мышцы сердца, печени, почек.
Ненормально большая сохранившаяся зобная железа. Недоразвитие (гипоплазия) аорты и крупных артериальных стволов. Рубец стенки живота в правой подвздошной области и отсутствие червеобразного отростка после бывшей операции. (1916 г.)
Заключение. Заболевание Михаила Васильевича Фрунзе, как показало вскрытие, заключалось, с одной стороны, в наличии круглой язвы двенадцатиперстной кишки, подвергшейся рубцеванию и повлекшей за собой развитие рубцовых разрастаний вокруг двенадцатиперстной кишки, выхода желудка и желчного пузыря; с другой стороны, в качестве последствий от бывшей в 1916 году операции – удаления червеобразного отростка, имелся старый воспалительный процесс в брюшной полости. Операция, предпринятая 29 октября 1925 года по поводу язвы двенадцатиперстной кишки, вызвала обострение имевшего место хронического воспалительного процесса, что повлекло за собой острый упадок сердечной деятельности и смертельный исход. Обнаруженные при вскрытии недоразвитие аорты и артерий, а также сохранившаяся зобная железа являются основой для предположения о нестойкости организма по отношению к наркозу и в смысле плохой сопротивляемости его по отношению к инфекции.
Наблюдавшиеся в последнее время кровотечения из желудочно-кишечного тракта объясняются поверхностными изъязвлениями (эрозиями), обнаруженными в желудке и двенадцатиперстной кишке и являющимися результатом упомянутых выше рубцовых разрастаний».
Практически Михаила Васильевича обрекли на смерть скрытые патологии, проявившиеся в ходе операции, которые выявить ранее не представлялось возможным. Тут и неудачная операция по удалению аппендицита в 1916 году, и больное сердце, и увеличенный зоб. Объективно говоря, операция Фрунзе требовалась, так как уплотнения, возникшие в результате язвы, можно было ликвидировать только хирургическим путем. Роковым же стал застарелый локальный перитонит, вызвавший после операции острое гнойное воспаление брюшины, что вызвало повышенную нагрузку на сердце и его остановку. Ни перитонит, ни врожденное сужение сердечных артерий и аорты заранее обнаружить медицина того времени не могла. Спасти Фрунзе могли бы только антибиотики, но их тогда не было. Если бы операции не было, то Фрунзе, вероятно, прожил бы еще несколько лет, постоянно страдая от желудочных болей и обладая очень ограниченной работоспособностью. Очевидно, ему пришлось бы выйти в отставку и вести размеренную жизнь пенсионера. Но о такой судьбе Фрунзе даже не помышлял, потому и настаивал на скорейшей операции, не подозревая, что она будет смертельной. Однако ее трагический исход заранее прогнозировать не могли ни Сталин, ни врачи, проводившие консилиум.
«Бывшие» думали и надеялись, что такие большевики, как Фрунзе и Котовский (потом в этом списке стал фигурировать Тухачевский), могут «переродиться» и свергнут наследников Ленина, вернув Россию на путь здорового национального развития.
Уже в июне 1924 г. Фрунзе был сделан кандидатом в члены Политбюро – единственным из членов Реввоенсовета, кроме Троцкого. Было очевидно, что именно его готовят Троцкому на смену.
Писатель Борис Пильняк в «Повести непогашенной луны» отразил широко распространенную версию о том, что Фрунзе был убит по приказу Сталина, причем убийство было замаскировано под неудачную хирургическую операцию. Повести было предпослано посвящение: «Воронскому, скорбно и дружески». А.К. Воронский был другом Пильняка и другом и земляком Фрунзе, а также видным марксистским литературным критиком, близким к Троцкому. Версию о причастности Сталина к смерти Фрунзе было решено использовать в борьбе против генсека и его союзников. Повесть была опубликована в 1926 г. в журнале «Новый мир». Номер журнала с повестью был вскоре после выхода конфискован и изъят из библиотек и даже по возможности – у подписчиков. В запретительном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 мая 1926 года «О № 5 «Нового мира» говорилось:
«…а) Признавая, что «Повесть о непогашенной луне» (так! – Авт.) Пильняка является злостным, контрреволюционным и клеветническим выпадом против ЦК и партии, подтвердить изъятие пятой книги «Нового мира»… в) Предложить тов. Воронскому письмом в редакцию «Нового мира» отказаться от посвящения Пильняка с соответствующей мотивировкой, которая должна быть согласована с Секретариатом ЦК… Запретить какую-либо перепечатку или переиздание рассказа Пильняка «Повесть о непогашенной луне»…».
В предисловии, как будто призванном усыпить бдительность цензоров, читателю ясно давалось понять, что прототип главного героя – Фрунзе:
«Фабула этого рассказа наталкивает на мысль, что поводом к написанию его и материалом послужила смерть М.В. Фрунзе. Лично я Фрунзе почти не знал, едва был знаком с ним, видел его раза два. Действительных подробностей его смерти я не знаю, – и они для меня не очень существенны, ибо целью моего рассказа никак не являлся репортаж о смерти наркомвоена. – Все это я нахожу необходимым сообщить читателю, чтобы читатель не искал в нем подлинных фактов и живых лиц. Москва. 28 янв. 1926 г. Бор. Пильняк».
Сталин не хуже Пильняка понимал, что Фрунзе никаким кандидатом в бонапарты не являлся и никакой опасности для его власти не представлял. Иначе бы не стал исподволь готовить его в преемники Троцкому в Реввоенсовете. Но для всей антисталинской оппозиции (не только троцкистской, но и любой другой, включая ту, что возникла после разоблачения культа личности Сталина на XX съезде партии) Фрунзе стал жертвой Сталина, а для того, чтобы как-то мотивировать это «убийство», подспудно подразумевалось, что у него могли быть бонапартистские замыслы. На самом деле Сталин никогда не рассматривал Фрунзе как угрозу для своей власти. Михаил Васильевич политических амбиций никогда не выказывал.
В чисто военной иерархии он стоял ниже С.С. Каменева, М.Н. Тухачевского и А.И. Егорова, которые в гражданскую войну командовали более крупными и важными фронтами. Его выдвижение на пост главы военного ведомства обосновывалось главным образом тем обстоятельством, что он был старым большевиком. Большой популярности в армии у него не было. Не было и лично преданных ему дивизий, которые он сам формировал и во главе которых сражался. Поэтому никакого военного переворота с его стороны опасаться не стоило. Зато в послесталинской традиции было принято противопоставлять «хорошего» Фрунзе «плохому» Сталину, хотя в реальности такого противостояния никогда не было. Фрунзе ни разу не критиковал Сталина и не имел с ним конфликтов, не состоял ни в одной из оппозиционных группировок. Он был одним из первых мнимых бонапартов в советской традиции.
4 января 1931 года с просьбой о помощи обратился к Сталину Борис Пильняк. Повод для деятелей культуры был вполне традиционен: ОГПУ не выпускало подвергавшегося резкой критике в печати писателя за границу. Пильняк писал:
«Глубокоуважаемый товарищ Сталин.
Я обращаюсь к Вам с просьбой о помощи. Если бы у Вас нашлось время принять меня, я был бы счастлив гораздо убедительнее сказать о том, ради чего я пишу.
Позвольте сказать первым делом, что решающе, навсегда я связываю свою жизнь и свою работу с нашей революцией, считая себя революционным писателем и полагая, что и мои кирпичики есть в нашем строительстве. Вне революции я не вижу своей судьбы.
В моей писательской судьбе множество ошибок. Я знаю их лучше, чем кто-либо. Оправдываться в них надо только делами. Должен все же сказать, как это ни парадоксально, – обдумывая свои ошибки, очень часто наедине с самим собою, я видел, что многие мои ошибки вытекали из убеждения, что писателем революции может быть лишь тот, кто искренен и правдив с революцией: мне казалось, что, если мне дано право нести великую честь советского писателя, то ко мне есть и доверие.
Последней моей ошибкой (моей и ВОКСа) было напечатание «Красного Дерева». Наша пресса обрушилась на мою голову негодованием. Я понес кары. Ошибки своей я не отрицал и считал, что исправлением моих ошибок должны быть не только декларативные письма в редакции, но дела: с величайшим трудом (должно быть, меня боялись) я нашел издателя и напечатал мой роман «Волга впадает в Каспийское море» (который ныне переведен и переводится на восемь иностранных языков и немецкий перевод которого я сейчас посылаю Вам), – я поехал в Среднюю Азию и печатал в «Известиях ЦИК» очерки о Таджикистане, последнее, что я напечатал, в связи с процессом вредителей, я прилагаю к этому письму и прошу прочитать хотя бы подчеркнутое красным карандашом. Содержание этих вещей я считал исправлением моих писательских ошибок, – этими вещами я хотел разрушить то недоверие, которое возникло к моему имени после печатной кампании против «Красного Дерева».
Мои книги переводятся от Японии до Америки, и мое имя там известно. Ошибка «Красного Дерева» комментировалась не только прессою на русском языке, но западноевропейской, американской и даже японской. Буржуазная пресса пыталась изобразить меня мучеником, – я ответил на это «мученичество» письмом в европейской прессе и вещами, указанными выше. Но мне казалось, что это мученичество можно было бы использовать и политически, что был бы неплохой эффект, если бы этот «замученный» писатель в здравом теле и уме, неплохо одетый и грамотный не меньше писателей европейских, появился б на литературных улицах Европы и САСШ (уже в течение трех лет я имею от американских писателей приглашение в САСШ, а в Европе я оказался бы принятым, как равный, писателями, кроме пролетарских, порядка Стефана Цвейга, Ромена Роллана, Шоу), – если б этот писатель заявил хотя б о том, что он гордится историей последних лет своей страны и убежден, что законы этой истории будут и есть уже перестраивающими мир, – это было бы политически значимо. Мне казалось, что именно для того, чтобы окончательно исправить свои ошибки и использовать мое положение для революции, мне следовало бы съездить за границу, тем паче, что это было у меня в обычае, так как с 1921 года, когда я впервые был за границей, я переезжал советские границы четырнадцать раз, а сейчас не был там с 1928 года.
Кроме этого, у меня есть другие причины, по которым мне надо ехать за границу.
Полупричиной я считаю то обстоятельство, что, не приехав на место, я никак не могу наладить моих переводно-литературных дел, когда переводчики меня безбожно обворовывают, – хотя эта полупричина дала бы Госбанку в год тысячу-полторы валютных рублей, если бы я наладил получение гонораров.
Главная причина – следующая. Годы уходят, и время не ждет, и с дней десятилетия годовщины Октября я задумал написать роман, к которому я подхожу, как к первой моей большой и настоящей работе. Мой писательский возраст и мои ощущения говорят мне, что мне пора взяться за большое полотно и силы во мне для него найдутся. Этот роман посвящен последним полуторадесятилетиям истории земного шара, – и я хочу противопоставить нашу, делаемую, строимую, созидаемую историю всей остальной истории земного шара, текущей, проходящей, происходящей, умирающей, – ведь на самом деле перепластование последних лет истории гигантско, – и на самом деле историю перестраиваем мы. Сюжетная сторона этого романа уже продумана, уже лежит в моей голове, – место действия этого романа – СССР и САСШ, Азия и Европа, – Азию и Европу я представляю, в САСШ я не был, – у меня не хватает знаний, а роман я должен сделать со всем напряжением.
Эти мои соображения я излагал ряду моих товарищей-партийцев, и по совету с ними я подал ходатайство о разрешении мне выезда за границу, месяцев на три – на шесть. Валюты я не прошу, так как все же часть моих переводов оплачена.
В разрешении выехать за границу мне отказано.
Почему – я не знаю. Неужели мне надо предположить, что обо мне думают, что я убегу, что ли, – но ведь это же чепуха! Не могу же я убежать от самого себя и от своей писательской судьбы, от революции, от своей страны, от языка, от жены, от детей!?