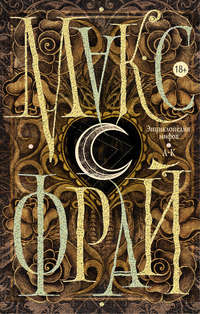
Энциклопедия мифов. А-К
– Это как раз невозможно. У меня нет слуха.
– Ну, значит, уличного музыканта из списка приемлемых для тебя судеб придется вычеркнуть. Впрочем, мы с тобой говорим не о подобающем тебе занятии, а о способе бытия. Тебе нельзя отвлекаться на попытки зажить нормальной жизнью по общепринятым правилам, только и всего. Работать при этом можно хоть участковым милиционером – если, конечно, у тебя хватит пороху разыгрывать такой спектакль.
10. Айы
Они почитались как покровители, могущие послать счастливую, благополучную жизнь.
– А можно я не буду участковым милиционером? – вежливо спросил я.
– Можно, – великодушно разрешила гадалка.
– А что мне еще можно? Что нельзя жить нормальной жизнью и иметь дело с нормальными людьми, это я уже понял. А с кем мне в таком случае можно иметь дело?
– Со всеми остальными. С мужчинами, которые не стремятся к первенству, с женщинами, которые не озабочены поисками любви. С ангелами и с чудовищами, с монстрами и святыми – хотя, на первый взгляд, они, возможно, ничем не отличаются от прочих… Околачивайся поближе к людям, которым чуждо хоть что-нибудь человеческое. К тем, кто действительноимеет значение, и к тем, кто не имеет значения вовсе. Научись узнавать их в толпе, наловчись подбирать к ним ключи, поищи в своем сердце сокровища, которыми их можно соблазнить. Это непросто, но дело того стоит. Именно они бросают кости в твоей игре – даже в тех случаях, когда ты уверен, что событиями движет твоя собственная рука…
– Ты меня напугала, – честно признался я. – Грустно это все. Мне бы хотелось думать, что ты просто морочишь мне голову, но… я откуда-то знаю, что не морочишь. И от этого жутко делается.
– Ну, может быть, жутко, – ее руки взлетели к вискам, пальцы погрузились в лисий шелк шевелюры, губы дрогнули в мечтательной улыбке. – Но на самом-то деле я говорю тебе прекрасные вещи. Я тебе даже завидую, откровенно говоря. Я бы с радостью поменялась с тобой судьбами; я бы украла твою жизнь, не раздумывая, но я не умею. Древнее это искусство, кажется, утрачено безвозвратно… Очень может быть, что тебе предстоит несколько нелегких дней или даже лет, это правда. Ты не захочешь, да и не сможешь принять свою судьбу, и будешь бегать: от нее, от себя, от моих предсказаний и от собственных предчувствий. Но даже эта дурацкая беготня – чудесное занятие, и мне искренне жаль, что я не смогу к тебе присоединиться.
– А почему? – печально спросил я, и сам оторопел от собственного вопроса, а еще больше – от невесть откуда взявшейся печали. В этот момент не было на земле существа, более близкого мне, чем эта странная рыжая женщина с непростым характером и нелепой профессией. Впрочем, сейчас, кроме нас двоих, вообще никого на земле не было, в этом, наверное, все дело.
– Ну… так уж сложилось, – неопределенно объяснила Олла. – Я пока не могу покинуть этот город, а ты не сможешь тут оставаться… Впрочем, сам увидишь, как все сложится. Тебе скорее понравится, чем нет, я так думаю.
– Не расскажешь подробнее?
– Не расскажу. Зато открою тебе еще одноправило твоей игры. Скоро, совсем скоро ты сам сможешь ответить на все вопросы: свои, чужие, чьи угодно. Если захочешь, ты станешь прекрасным оракулом, только не вздумай следовать традиционным ритуалам: они для тебя губительны. Будь внимателен, и весь мир станет твоей гадальной колодой. Трещины на асфальте и ветви деревьев будут принимать форму рун – ты только научись их читать. Книга, открытая наугад, будет содержать ответ на любой твой вопрос; птицы всегда укажут тебе верное направление, а из номеров проезжающих мимо тебя автомобилей сложатся формулы, расшифровав которые, ты не только свинец, но и кошачий помет превратишь в золото. Если захочешь заниматься такой ерундой, конечно.
– Даже так? – лепечу, едва разлепив пересохшие вдруг губы. Я сбит с толку, выбит из колеи, сижу дурак дураком. У меня была такая хорошая «своя тарелка», а меня оттуда насильственно извлекли. Олла наматывает меня на вилку, как некую причудливую макаронину. Есть, правда, вроде бы не собирается – и на том спасибо.
За окном пронзительно каркнула ворона, словно бы подавая сигнал затаившемуся в ожидании подходящего момента невидимому оркестру урбанистической культуры. Где-то рядом, возможно, в соседней квартире, звонко залаяла собака, откуда-то издалека тут же откликнулась ее басовитая товарка. Взвыл автобус, ударилось об асфальт стекло, вместилище живительной влаги (предсмертный звон бьющейся бутылки ни с чем не спутаешь), печально, с бессильной старческой хрипотцой заматерилась жертва прискорбных обстоятельств. Взвыла сирена скорой помощи, заржали подростки; визгливое сопрано зазывало домой какого-то Шуру – не то конопатого дошкольника, не то сорокалетнего алкаша, сразу ведь не разберешь. Инструменты оркестра звучали слаженно, городская симфония еще никогда не представлялась мне столь продуманным, гармоничным и завершенным произведением. Но насладиться ею в полном объеме мне не довелось.
– Все, твое время вышло, – объявила Олла. – Тебе пора домой. Наталью не буди, пусть еще у меня погостит. В любом случае, вам не по дороге.
– Да нет, по дороге, если ехать на сто сорок третьем автобусе, просто ей выходить на пять остановок раньше… впрочем, мы все равно кофе пить собирались в центре.
– Мало ли что вы собирались… И при чем тут какой-то автобус? «Не по пути» – это значит, что не тебе ее будить. Не твоего это ума дело, Макс. Тебе сейчас нужно не в кофейню, а домой. Запереться там от всех друзей-приятелей, распутать нитку и сжечь ее. А потом – прожить ночь, которая наступит. Все, что случится с тобой между моим подъездом и завтрашним рассветом, – очень важно. Это – карта. Это твое главное дело сейчас.
– Ничего не понимаю. Какая карта? Это метафора? – я жаждал развернутых пояснений, но она подняла меня со стула и чуть не насильно подталкивала к выходу.
– Метафора, не метафора… Тут и понимать-то нечего. Просто распутай нитку, сожги ее и доживи до рассвета. Проживи эту ночь с широко открытыми глазами. Действуй по обстоятельствам, смотри по сторонам, запоминай, мотай на ус. Больше ничего от тебя не требуется.
– А я могу еще раз зайти к тебе? Завтра, или в четверг, или когда скажешь…
– Может быть, и можешь. Но вряд ли захочешь. Не до меня тебе будет в ближайшее время.
– Все так ужасно?
– Наоборот. Изумительно. У тебя все будет в порядке, – шепнула Олла, открывая мне дверь. – Лучше, чем ты сам себе мог бы пожелать. Много лучше. Это тожеправило твоей игры. Последнее на сегодня.
11. Акахада-но усаги
Старшие братья дают ему коварный совет омыться морской водой и лечь на гребне горы, продуваемой ветром. Акахада-но усаги следует совету, и страдания его усиливаются.
Шестьдесят шесть ступенек вниз – я считал их, словно бы творил некое спасительное заклинание. Распахнув дверь подъезда, вознес безмолвную, но прочувствованную молитву неведомым милосердным богам: городской пейзаж был скуден, скучен и неизменен; асфальт под ногами – щербат, но упоительно тверд; небо над головой – легкомысленная сатиновая синь, этакие необъятные «семейные» трусы божества, как и положено нормальному майскому небу. Мир уцелел. Я, кажется, тоже.
Ехать домой не хотелось. То есть ехать хотелось, но не домой, а просто ОТСЮДА, из этого стремного места, где хрущевские пятиэтажки имеют обыкновение становиться призраками небоскребов, а изящные рыженькие женщины обладают скверными манерами и тяжелым характером древних пророков. Мне требовалось немедленно оказаться где-нибудь в центре города, где шумно, людно, суетно; где на любом углу на одну чужую рожу приходится полтора десятка смутно знакомых рыл. Пусть берут меня под руки, ведут куда-нибудь и врачуют своими милыми повседневными глупостями, потому что…
Я и себе-то не мог толком объяснить, что именно со мной не в порядке. Просто во всем происходящем мне теперь чудилась некая недостоверность. Небо было расположено то ли слишком близко к земле, то ли чересчур высоко; автомобили и автобусы ехали по шоссе то ли необычайно быстро, то ли, напротив, непривычно медленно; прохладный морской ветер проникал не только под одежду, но, кажется, под самую кожу, отчего мышечная мякоть зябко содрогалась, а кончики пальцев твердели и теряли чувствительность – это на весеннем-то солнце! Прохожие… С прохожими была какая-то отдельная беда: они словно бы не видели меня, а если подходили слишком близко – поспешно отводили глаза и огибали мою замершую на перекрестке тушку по какой-то слишком уж крутой дуге. Возможно, впрочем, мне это только мерещилось, но впечатление складывалось тягостное. Я и прежде не раз охотно именовал себя «ссыльным инопланетянином», но это была всего лишь поза, умозрительная картинка, нарисованная для ублажения собственного честолюбия («я не такой, как все» – о-о-о-о-о, круто, круто!). А вот сейчас я впервые почувствовал себя чужеродным предметом в мире людей, причудливой унылой кляксой на жизнерадостном предвечернем фоне южного города. И ощущение это оказалось скорее малоприятным телесным переживанием, чем сладостным плодом умственного усилия. Я испытывал легкую, но изматывающую дурноту. Нет, меня не тошнило от окружающего мира, но я явственно чувствовал, что мир тошнит от меня. Я был куском непереваренной органики – только-то. И библейско-достоевская цитата:изблюю тебя из уст моих, – казалась удивительно актуальной.
От этого морока, как я тогда полагал, существовал лишь один рецепт: быстренько добраться до центра, отыскать там теплую компанию друзей-приятелей, как следует выпить (хоть и не люблю я напиваться, но сегодня – сегодня сам бог велел!). Подвернется коробок травы – еще лучше. Но никаких галлюциногенов: их мой организм, кажется, начал вырабатывать самостоятельно… Оглушить себя, довести до ручки, притупить ощущения, усыпить разум; хорошо бы еще привести домой женщину, все равно кого, лишь бы без особых проблем. Чтобы осталась до утра, потому что сегодня я буду бояться темноты…
У меня была слабая надежда, что после столь интенсивного терапевтического курса я проснусь как новенький. С квадратной головой, конечно, не без того, но морок уйдет. И это главное.
Я так стремился к исцелению, что решил взять такси. Это, конечно, была чистой воды дурь: деньги у меня в последнее время появлялись редко, помалу и без гарантии новых поступлений. Одна поездка в такси – это два дня умеренно сытой жизни. Или один день, но суперсытой. Или три похода в кофейню. Или полкутежа. Или много хорошей пленки для фотоаппарата, или треть платы за электричество, каковое мне уже не раз грозились отключить за долги, или… В общем, я не мог позволить себе тратить деньги на такси. Но сейчас это не имело значения. Поездка на такси займет десять минут, а на автобусе, огородами, да со всеми остановками – сорок, не меньше. И ждать его еще придется – хорошо если полчаса, а то ведь и до ночи, если не до следующей реинкарнации.
Синяя «копейка» затормозила сразу же, стоило руку поднять. Я возликовал и вежливо осведомился у пожилого усатого мужика, подвезет ли он меня к театру на улице Леннона (центральную улицу города, названную в честь первой русской мумии, пока не спешили переименовывать, и черт с нею: еще два поколения назад городская молодежь наловчилась должным образом комкать ульяновское погонялово; традицию постепенно усвоили даже те горожане, чьи музыкальные пристрастия ограничивались Пугачевой да Джо Дассеном). Дядечка флегматично кивнул, не стал даже цену поездки назначать заранее, оставляя сей животрепещущий вопрос на мое усмотрение. Словно догадывался, что в таких случаях я плачу чуть больше, чем положено.
Курить в машине мне великодушно разрешили; самое же удивительное, что в салоне имелся кассетный магнитофон – не встроенная магнитола, конечно, тогда такая роскошь была редкостью – просто лежала на заднем сидении маленькая переносная «сонька» и сипло насвистывала некий приятственный джазец. Я расслабился. Курил, слушал музыку, гадал, кто из приятелей встретится мне сейчас первым и хватит ли заначенной в нагрудном кармане пятерки для овеществления запланированного загула; на все формы размышлений о давешнем визите к гадалке был наложен строжайший запрет. Я умею держать себя в узде, если очень припрет.
Релаксация моя достигла неописуемых высот, когда водитель остановил машину. Я полез в карман за деньгами. К моему изумлению, он буркнул: «Не надо, мне по дороге было», – неслыханное событие для новой, только-только наступившей, эпохи всеобщей экономической неприкаянности. Я так растерялся, что, кажется, даже поблагодарить забыл усатого своего благодетеля. Вылез из машины чуть не в полуобморочном состоянии: скорее, скорее, пока ангелы-хранители мои не опомнились и не вразумили этого блаженного.
Когда я понял, что меня высадили вовсе не напротив театра драмы на Ленина-Леннона, а на углу улицы Шевченко и проспекта Мира, точнехонько у моего подъезда, синей «копейки» и след простыл.
– Ну, дела… – жалобно сказал я сам себе. – Я же его просил… Адрес-то мой как он угадал, а?
Ответа, разумеется, не последовало. Небеса не разверзлись, дабы отправить мне огненный факс с пояснениями, да и лукавый Мефистофель не тявкнул из-за угла черным пуделем. Напрасно, кстати: я бы сейчас охотно уступил ему свои Ка, Ба, Ах и прочие метафизические кишки, если бы в пакет дьявольских предложений входил полный набор четких и ясных ответов на все мои вопросы. Однако Фауста из меня не получилось.
По всему выходило, что мне следует идти домой и выполнять нехитрую инструкцию суровой Оллы-Хельги. Знак судьбы и все такое… Ага, как же!
Когда я понимаю, что меня к чему-то принуждают, я теряю разум. В таких случаях я упрям как осел и не способен трезво оценить ситуацию. Я буду стоять насмерть за право поступить по-своему, даже если в глубине души знаю, что затеял глупость. Я и летать-то, вероятно, до сих пор не научился потому лишь, что никто никогда не запрещал мне летать. Попробовали бы!
Поэтому я пожал плечами, сунул руки в карманы и зашагал прочь. От моего дома до пресловутой улицы имени мумии и музыканта всего-то минут пятнадцать пешком. А если быстро идти, то и вовсе десять. А если очень быстро…
Галопом я все же не понесся, но к тому шло.
Торопливость моя оказалась излишней. Улица была на месте, театр – тоже, сквер возле театра никуда не делся. Да и любимая моя безымянная кофейня (когда-то она называлась, конечно же, «Театральное кафе», но вывеску еще года полтора назад похитили мои друзья-художники для каких-то своих загадочных артистических нужд, а тратиться на новую дирекция не пожелала) не только не исчезла, но и выпустила на тротуар разноцветные щупальца пластиковых столиков. Чего в этом идиллическом пейзаже не хватало, так это знакомых рыл. Это в южном-то городе, в самом начале душистых майских сумерек. Невозможно.
– Не-воз-мож-но! – сказал я вслух, по слогам. Две девушки в одинаковых джинсовых платьях взглянули на меня испуганно и чуть презрительно, как обычно смотрят на городских психов, и торопливо зацокали каблучками от греха подальше. Одна из них была совершенно в моем вкусе, вторая принадлежала к разновидности женщин, которых я видеть не могу. Почему-то они очень часто ходят парами, эти два типа, и чудовища заботливо оберегают красавиц от моих посягательств. Эх!..
Я зашел в кафе, с неудовольствием отметил, что кассирша там сегодня новая, и за стойкой суетилась какая-то инородная пигалица с искусственными ресницами, – а ведь я не только всех местных теток, я, кажется, даже бесчисленных членов их семей в лицо знал! Взял чашку кофе, пятьдесят граммов коньяку, вышел на воздух, уселся на темно-зеленый пластмассовый стул, взгромоздил посуду и локти на красную клеенку. Закурил, огляделся. Народу – тьма, знакомых лиц – ни одного. Впору с ума сойти.
Минут сорок я нес вахту за столиком. Потом нервы мои не выдержали, и я покинул пост. Часа полтора блуждал по городу. Обошел все мало-мальски обжитые места; в финале заглянул даже на книжную толкучку в надежде встретить там знакомых спекулянтов. Шансы были велики: одному я задолжал семь рублей за тонкий коричневый ломтик сочинений Борхеса; другому заказал дорогущую двухтомную энциклопедию «Мифы и легенды», за которую пока не мог расплатиться; третьему проиграл в клабор дореволюционное издание «Графини де Монсоро» (отдавать-то книжку не жалко, а вот лезть за нею на антресоли я ленился уже второй месяц кряду). Согласно закону подлости, ребята были просто обязаны вынырнуть из толпы прямо перед моим носом и сурово потребовать расплаты. Ан нет, не вынырнули, хотя время сейчас у них самое горячее: после обеда люди почему-то расстаются с деньгами куда охотнее, чем поутру, не знаю уж почему…
Отсутствие знакомых лиц там, где им было положено находиться, постепенно сводило меня с ума, я терял чувство реальности и едва ориентировался в знакомых переулках – а ведь в этом лабиринте невозможно отыскать булыжник, который хоть раз да не попирался бы моей стопой.
Ветер, настигший меня возле дома гадалки, следовал за мной по пятам, я уже пропитался им насквозь, как пропитывается влагой одежда в туманный день. Засунув меня в соковыжималку, можно было бы получить несколько порций великолепного свежего ветра. Какая-никакая, а все же хозяйственная польза!
Я все еще помнил, кто я такой; помнил даже, какого рода нужда заставила меня описывать бесконечные круги по центральной части города… но уже начинал всерьез подумывать о том, чтобы записать эту бесценную информацию на бумажке: «Я – Макс, ищу знакомые лица, в случае полной утраты памяти прошу доставить меня по адресу: улица Шевченко, дом четыре дробь десять, квартира тридцать шесть. Есть надежда, что именно там я и живу». Бумажку следовало предусмотрительно приколоть к груди: авось, встретится на моем пути к безумию некий милосердный самаритянин, способный выполнить инструкцию.
В какой-то момент я наконец сообразил, что можно просто обзвонить всех знакомых, чьи номера я помню. Если уж их нет ни на улицах, ни в кафе, хоть кто-то должен оказаться дома. Еще одну вечность я угробил на поиски телефонов-автоматов. Разумеется, не нашел ни одного исправного – кто бы сомневался!
Надо было возвращаться домой. По крайней мере, там обретался телефонный аппарат идиотически жизнерадостного оранжевого цвета. Разум уже давно подводил меня к этому разумному решению, однако ноги уносили в противоположном направлении. Мне бы свернуть на Спартаковскую, откуда до моего телефонизированного жилища рукой подать, а я зачем-то свернул на улицу Маяковского, и вот тут-то…
12. Али
Однажды Аллах вернул на небо солнце, чтобы Али мог совершить предзакатную молитву.
К улице Маяковского у меня всегда было особое отношение. Я очень любил ее – узкую, короткую, тенистую, засаженную липами и почти не порченную выхлопными газами, хотя дорожные знаки проезду автомобилей отнюдь не препятствовали. Одна сторона улицы Маяковского всегда была людной и оживленной, небо над нею пестрело лоскутами парусиновых тентов, прохожие локтями прокладывали себе дорогу между столиками летних кафе и табуретами окрестных жителей, опрокидывали казенную посуду с остатками кофе, чертыхались, хохотали, приветствовали друзей-приятелей, прилюдно устраивали семейные сцены, обменивались любовными признаниями, сплетнями и кулинарными рецептами. Задворки городского сада жасминовыми облаками наползали на тротуар; голуби, воробьи и вороны то и дело вспархивали из-под ног пешеходов, но не желали воспарять, ибо помыслами местных пернатых управляли бойкие старушки с мешками тыквенных и подсолнечных семечек: их деревянные скамеечки были расставлены строго на расстоянии пяти метров друг от друга, не больше и не меньше. Здесь же бегали дети и собаки, жались к горсадовскому забору робкие филателисты, а пролетарии всех стран (в частности, отечные музыканты из похоронного бюро и чернокожие студенты из близлежащего общежития Института связи) с энтузиазмом воссоединялись на перекрестке, где с раннего утра дежурила бочка с квасом.
Противоположная же сторона улицы Маяковского всегда была пустынна; редкие одинокие прохожие вызывали настороженное недоумение местных обитателей: экий топографический нигилизм! Даже птицы там не селились, зато и не гадили; так что асфальт казался стерильным, по крайней мере, не пестрел белесыми кляксами помета. Здесь стояли двухэтажные жилые дома из серого ракушечника, выходящие на улицу окна предусмотрительно скрывались за одинаковыми решетками: убогая четвертушка круга в углу, от нее, подобно солнечным лучам, разбегаются толстые железные прутья. За высокой оградой между домами скрывался миниатюрный костел – возможно, самый маленький в мире храм этой конфессии; на углу высилась угрюмая, облицованная изжелта-сизым кафелем, пятиэтажка, построенная сравнительно недавно, в начале семидесятых годов; из-за железных ворот, ведущих во двор, веяло холодом даже в июле. Одна из подворотен по «необитаемой» стороне улицы Маяковского была знакома любому совершеннолетнему горожанину: там проживала знаменитая Валька-Мадонна, торговавшая спиртным в ночное время. Я сам не раз навещал эту плодово-ягодную фею и могу свидетельствовать: мне всякий раз требовалось сделать над собой некоторое усилие, чтобы перейти на ту сторону улицы. С моими приятелями творилось то же самое, хотя никаких рациональных объяснений этого феномена у нас, разумеется, не находилось.
Теперь же с улицей Маяковского творилось что-то вовсе неладное: она была абсолютно пустынна. Вся, полностью. Куда-то пропали случайные прохожие и местные обыватели, досужие завсегдатаи кофеен и вездесущие старушки с семечками. Даже детей и птиц не было. Исчезла бочка с квасом; разноцветные тенты и шаткие столики из белой пластмассы тоже накрылись некой гибельной вагиной. Я поначалу даже решил было, что сдуру куда-то не туда свернул. Однако таблички с названием улицы, липы, жасмин, костел и солярные оконные решетки были на месте.
Я замедлил шаг, некоторое время бродил по тротуару, во все глаза пялясь по сторонам. Наконец остановился, окончательно оглушенный. Желудок заныл от страха – совершенно иррационального и потому непреодолимого.
– Успокойся, – сказал я себе вслух. – Мало ли… Ну, закрыли кафешки, бывает. Санэпидемстанция наехала, или бандиты, или еще какая дрянь приключилась.
Звук собственного голоса обычно оказывает на меня целительное действие. На сей раз, однако, проверенный метод не сработал. Я почему-то испугался еще больше.
А потом я как-то внезапно понял, что уже стемнело. Кажется, только что начали сгущаться сумерки – и не синие ночные, а дымчатые, предзакатные, ласковые, лживые, сулящие волшебный вечер даже самому разнесчастному бедолаге, бредущему в ближайший гастроном на предмет закупки недельных запасов кефира. Выходило, что я как-то проворонил, бездарно растранжирил на беготню самое сладкое время суток, границу между вечером и ночью… Но этого быть не могло. Потому что еще и пяти минут не прошло с тех пор, как я свернул на улицу Маяковского, а когда я сворачивал, день не собирался уступать вечеру, птичий щебет не умолкал, окна не озарялись желтым леденцовым сиянием и свет фонарей не растекался бледными лиловыми кляксами по синеющему асфальту, даже речи об этом не шло.
Фонари, впрочем, и сейчас не горели, да и окна домов оставались темными. Ночь, однако, наступила – по крайней мере, на одной, отдельно взятой городской улице. Нервы мои не выдержали, я развернулся на сто восемьдесят градусов и побежал.
Дальнейшие события выходят за рамки моих тогдашних представлений о возможном, поэтому изложить их более-менее внятно я не способен. Могу сказать только, что никуда я не прибежал, как ни старался: то ли топтался на месте, то ли проклятая улица вдруг стала бесконечной, как прямая линия из школьного курса ужасающей науки геометрии. В какой-то момент я сдался, сел на тротуар, обхватил колени руками, спрятал лицо – страус, да и только. Я бы закричал, пожалуй, да сил на это уже не было. Меня охватило оцепенение, почти спасительное: все же никаких монстров, желающих заполучить меня на ужин, поблизости не обнаруживалось, а будь у меня чуть больше энергии – кто знает, какие глупости я бы мог совершить? Стал бы, например, стучаться в окна, ломиться в подворотни, или на дерево полез бы – а я совершенно уверен, что ничего в таком роде мне тогда делать не следовало. Сидеть на асфальте, скукожившись, – еще куда ни шло.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1