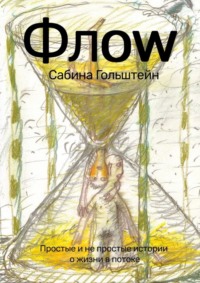
Флоw. Простые и не простые истории о жизни в потоке
Рахель вдруг резко повзрослела и очень поддерживала родителей, оказавшись не по годам умной, доброй и отзывчивой. Миша с необыкновенной нежностью думал о том, что, если они вырастили такую дочь, они ещё многое смогут. Младшие дети реагировали на нового члена семьи достаточно естественно, слегка ревнуя и требуя внимания.
Клара же не хотела ничего читать, слышать и видеть. Она полностью отдалась материнству. Всеми фибрами своей души она полюбила этого мальчика. Слепой, глухой… Это не имело для неё никакого значения. Это был её мальчик. Её кровь и плоть и что-то ещё. Что-то, что она не могла определить словами. Они заканчивались, и оставалась одна чистая энергия любви, идущая напрямую. Нет, не из сердца даже – из недр бессмертной, вечной души человеческой.
Мир Арье состоял из пространственно-временной гаммы запахов, вкусов и прикосновений. Мягкое, податливое, тёплое, вкусно пахнущее сладким запахом молока преобладало. Было ещё несколько других, повторяющихся. Терпкое, чуть жестковатое и колючее. Мягкое, слегка напоминающее первое, доминирующее, но без родного запаха молока. Иногда приходили иные запахи, чужие, незнакомые. Это пугало и заставляло сжиматься в комок, требуя поскорее знакомое, то, с чем связывала невидимая телепатическая нить. Стоило ему ощутить голод, тут же рот его ловил сладкое прикосновение материнского соска. И словно сама жизнь входила в него с каждым глотком. Если становилось холодно и мокро, заботливые руки совершали над ним таинственные процедуры, после которых становилось сухо, тепло и надёжно.
Его мир, сузившийся до пределов одной небольшой семьи, оказался наполненным до краёв вселенской, всепоглощающей и всепрощающей любовью. Клара же словно и не замечала его отличий от других её детей.
С первыми тремя в их младенчестве она была матерью ровно настолько, насколько это было нужно. Конечно, она всех детей любила. Но в глубине души тогда ей хотелось сбежать от всего этого и вернуться года через три, когда они повзрослеют и не будет этой её тотальной принадлежности другому существу. С Арие всё было совсем иначе. Ей хотелось быть с ним каждую минуту его существования. Она была безумно счастлива любым мгновением её материнской самоотдачи. Между ними царила невидимая связь, и ей хотелось просто жить, отдавая всю себя этому ребёнку.
– Мы никак не можем понять, в чём нарушение. Физиологически никаких отклонений не наблюдается. Скорее всего, речь идёт о неврологии. Нужно продолжать проверки. Кстати, насколько я понял, со слухом у него похожая картина. – Профессор шумно дышал, видимо страдая одышкой. – Поверьте, он в хороших руках, и всё, что возможно делать, мы делаем. Но для начала надо разобраться в сути проблемы. А он ещё очень мал. Мы отправим вас на дополнительные тесты. Пока что придётся набраться терпения.
Миша ловил каждое слово, слегка наклонившись вперёд. Клара слушала вполуха. На руках у неё спокойно лежал маленький Арик. Он подрос за эти полгода. Поначалу он практически не реагировал на окружающее. Но вот уже с месяц, как только она подходила поближе, на лице его воцарялась беззубая улыбка. Нос его подрагивал, внюхиваясь в знакомый запах, ручки тянулись в сторону мягкого и тёплого, того, что согревало и окунало с головой в поток любви. Он зримо ощущал это поле любви каждой клеточкой своего маленького тельца. Купался в нём, словно в тёплом море. Что-то оттаивало в его израненной древней душе, как сосулька, попавшая под ещё холодное мартовское солнце.
Пустыня, по которой он шёл, неожиданно заиграла многоцветьем красок. Тут и там мелькали признаки жизни: изумрудной ящерицей, быстро скрывшейся за поворотом; ещё одиноким маковым цветком, подросшим на обочине. Он остановился около цветка. Ему вдруг захотелось смотреть на него не переставая. Вокруг ещё всё было серо и туманно. Но в этой маленькой точке шла своя жизнь. На стебельке удобно расположилась божья коровка. На бутон присела невзрачная белая бабочка.
– Иди, – вдруг услышал он, – иди, живи…
Чуда не произошло. А если и произошло, то оно оказалось удивительно будничным. Клара вдруг стала замечать, что её сын реагирует на звук и свет. Она боялась делиться с кем-то этим открытием.
Однажды, когда вся семья находилась в салоне, Йонька очень громко хлопнул входной дверью. И Арие заплакал. Миша и Клара переглянулись и заплакали вместе с ним. Миша подхватил его на руки и стал громко говорить ему что-то, смеясь и плача одновременно. Арик вдруг успокоился и заинтересованно замолчал, глядя на отца. Рахель улыбнулась и сказала, что знала: всё так и произойдёт.
Пустыня Арие превратилась в оазис, расцвеченный яркими красками, привнесёнными любовью близких ему людей. Впрочем, никакой особой метаморфозы не произошло. Просто любовь родных стала тем светом, который позволил ему увидеть и услышать всю прелесть и красоту этого волшебного места, называемого жизнью.
Послесловие
Арие приоткрыл глаза, и первое, что он увидел, была его морщинистая, переделавшая много дел, рука. Вся в мелких конопушках, солнечных отметинах.
– Что, папа, плохо? – спросила сидевшая рядом с ним немолодая миловидная женщина.
– Всё хорошо, Клара, солнышко. Иди поспи. Пожалуйста.
Арие снова задремал. Перед ним калейдоскопом мелькали воспоминания его длинной нынешней жизни. Вехи пути. Мама… Волшебное воспоминание нахлынуло на него, и он ощутил её незримое светлое присутствие. Воспоминания о ней всегда приходили сладким запахом. Мама рассказывала ему историю его рождения, хотя сам он ничего не помнил. О его врождённом неизвестном недуге. О волшебном исцелении. О её любви к нему. Правда, об этом она могла не рассказывать. Её любовь сопровождала его на всём его длинном, порой нелёгком, жизненном пути. Это был его колодец. Оттуда он черпал силы, когда казалось, что они на исходе и пора уходить. Так было несколько раз. Тогда, когда он подростком чуть не умер от несчастной любви. Когда погибла в автокатастрофе его первая жена. Когда умерла мама, уйдя во сне, как, говорят, уходят лишь истинные праведники. Теперь он чувствовал, что время пришло. Срок истёк. Он жил любя и умирал сейчас – любя. Он чувствовал, что нашёл ответ на вопрос, который постоянно преследовал его. Не нужно задавать слишком много вопросов. Нужно просто жить…

Эстер
Как вку-усно пахнет.
– Мамочка, мои любимые! Спасибо, родная! Бейгалех с творогом и укропом…
Взгляд выхватил привычные предметы: печку, лавочку, любовно вышитые мамиными руками занавески. В окошко заглянуло весеннее солнышко. Птицы поют. Что может быть лучше такого утра? Такой жизни? Эстер потянулась, зажмурилась от счастья и… открыла глаза навстречу другой, страшной реальности.
Первое, во что упёрся взгляд, был бурый потолок. Ужасно болела шея, затёкшая после тяжёлого, беспробудного сна на деревянных нарах.
– Шнелер! Шнелер!
Глаза Эстер наполнились слезами от страшного несоответствия между той волшебной реальностью сна и этой, сегодняшней. Она на несколько секунд зажмурилась, пытаясь проснуться ещё раз, избавиться от кошмара, в котором оказалась. Но весь ужас был в том, что реальность была хуже любых ночных кошмаров. Память стала возвращаться к ней. Вчерашней былью об убитой сестре. Малка. Королева… Малка была старшей и всегда защищала Эстер насколько могла. Сначала от наглых мальчишек и дворовых собак, которых Эстер боялась до смерти. Потом от этих псов-нелюдей. А вчера Малку убили. Чем-то не понравилась она надзирателю. В голове Эстер, словно кадры немого кино, прокручивалась сцена, когда надзиратель поднял пистолет и буднично ткнул рукояткой в затылок сестры: «Уберите это, живо…»
– Шнелер! Шнелер!
Эстер очнулась и ринулась прочь из барака на ежедневную утреннюю перекличку. Кому жить, кому умирать. Налево шли все те, кто уже не мог работать. Направо – все остальные. Воздух, а точнее, то, что от него осталось, был пропитан едким, сладковатым дымом, а земля поутру становилась серая от золы.
«Малка. Шейнэ мэйдале. Кареглазая озорница, пацан в юбке. Малка, как я буду здесь без тебя? Не хочу. Не могу больше». Неведомая сила заставила Эстер встать в ряд, выпрямить спину, опустить взгляд.
– Шнелер! Тихо, я кому сказала! – Сегодня на дежурстве была белокурая бестия, отличавшаяся особым садизмом. – Ты, ты и ты – в санитарную команду, – она ткнула пальцем в сторону Эстер и её двух соседок. – Там понадобилась замена. Непонятно, почему там не задерживаются в последнее время, – рассуждала надзирательница вполголоса, как будто сама с собой.
Эстер, когда-то рыжая чуть полноватая красавица, напоминала сейчас собственную тень, бледное подобие человека без пола, лица и души. Потухший взгляд в землю, живот, словно прилипший к спине, обритая, с пробивающейся сединой голова, тонкие пальцы с намертво въевшейся грязью под обломками ногтей. Вот и всё, что осталось от семнадцатилетней огненной зеленоглазой селянки, пленявшей всех парней в округе.
«Санитарная команда», – словно обухом по голове, внутренним эхом прозвучали страшные слова. А ноги уже вели туда, куда требовательно толкали в спину.
Лагерь растянулся на сотни метров. Каждый шаг давался Эстер тяжело. Она словно раздвоилась. Часть её была там, в грязи по колено, в жутком пепле, покрывшем всё и вся. Другая её часть вспоминала еле уловимый запах детства, запах мамы, запах творожных бейгалех, которые Бог милостиво послал ей в сегодняшнем сне. Она знала: это всё, что осталось у неё от этой жизни. Уйдёт и это, жизнь закончится. Где-то на самом кончике языка она почувствовала вкус творога с укропом.
– Шнелер!
Мокрая густая жижа не пускала ноги, словно говорила: «Остановись, отдохни». Но Эстер продолжала идти. Ей казалось, что путь их длится целую вечность и никогда не закончится. Но самая страшная точка во всём лагере будто шла ей навстречу и вот уже оказалась совсем рядом.
– Стоять. Тихо!!! – визжал фальцетом молодой надзиратель. Никто и не думал ему противиться.
– Ты, – он ткнул в Эстер пальцем, – шаг вперёд. Взяла тележку и шнелер. Шнелер!
Эстер, проглотив нахлынувшую откуда-то липкую, вонючую слюну, засеменила в указанном направлении. Пустая тележка показалась ей непомерным грузом, но что-то гнало её вперед.
– Шнелер, я кому сказал! Вот же медлительные твари.
Их заставили обойти здание с тыльной части. Внизу открывалась маленькая, словно детская, дверка.
– Ваша задача – санитария. Кто будет работать хорошо, получит вознаграждение. Йа, йа, здесь у нас условия получше. У вас будет перерыв на обед, – молодого крикуна сменил пожилой, толстый и румяный, улыбчивый дядька.
Эстер почувствовала набежавшую дурноту, перед глазами стало темно, и она пошатнулась, навалившись на ручки тележки, тут же больно впившейся ей в живот и в бёдра. Надзиратель отвёл глаза в сторону. Этой доли секунды Эстер хватило, чтобы собраться с силами, выпрямить спину, опустить глаза в пол.
– Сейчас поступит новая серия. Работаем оперативно. Всё, что выходит, собираем на тележки и вывозим туда, – дядька махнул в сторону нескольких свежевырытых ям метрах в ста от здания.
– Вперёд! – громко сказал наздиратель, а потом прошептал почти про себя: – С богом!
За последние месяцы Эстер совсем ослабела. Страшная работа, поначалу сковывавшая ей все члены диким ужасом, постепенно превратилась в рутину. И знакомая тележка, и смрад, и горы искалеченных трупов не оставляли уже почти никакого следа в её измученной душе.
Детство не возвращалось к ней даже в снах. Порой она глядела на себя со стороны и видела скелет, обтянутый кожей с трупными пятнами, везущий на тележке себе подобных.
Едва тёплая похлёбка, единственная еда, которую они получали раз в день, словно протекала сквозь неё, не задерживаясь. Постепенно всё земное стало отдаляться, и встреча с газовой камерой становилась неизбежной.
Шершавые тёмные стены, душевые краны поверху. Эстер казалось это таким будничным и знакомым. Она поняла, что не способна уже ни на какие чувства, даже на страх… Вместо воды комната стала заполняться стонами и всхлипами задыхающихся людей. Страшная судорога свела Эстер шею и горло. Сознание отключилось, и лишь в последнюю секунду в голове её возникло единственное слово: «Свободна…»
Послесловие
Свобода, свобода, я свободна… Я выберу себе другую жизнь. Жизнь с тёплыми булочками и кофе по утрам, жизнь, полную любви, радости, света. Я научусь. Научусь любить этот мир и, отрицая скверну, видеть в нём тонкие, прекрасные черты. Радость узнавания будет сопровождать меня на каждом шагу, я стану себе и учителем, и ведомой, я проживу эту жизнь, испивая до дна это терпкое и душистое вино садов души моей. Я пойму, что смерть – это друг, смерть – это свобода нового выбора. Я пойму, что жизнь и смерть есть одно неделимое целое. Я узнаю, что страх – это иллюзия самозащиты. Я научусь давать и брать. Любить в первую очередь самоё себя, а потом уже и мир. Я научусь принимать себя целиком, со всеми моими «трещинками», с прошлым и будущим опытом. Я сумею, нет, я уже умею делать тикун – исправлять то, что должно быть исправлено светом и любовью.
А ещё я научусь плакать, потому что оставлю позади страшную связку: плач – это слабость и немедленная смерть.
Я узнаю об этом когда-нибудь, чтобы понять и найти причины, а пока – свобода, я наконец-то свободна…

Нати и Лоранс
Голландия, 1920 г.Солнечный луч коснулся детской головки, словно играя, залил светом закрытые глаза. Сознание постепенно возвращалось к Нати. Свет не давал ему провалиться в тёмные глубины сна. Потянувшись в постели, Нати приподняла левое веко. Взору её предстала спящая старшая сестрица, свернувшаяся клубочком, словно маленький ёжик. Она лежала на высокой деревянной кровати в светлой кружевной постели. Белокурые локоны разметались по подушке. Казалось, сам Морфей, посети он эту комнату, примет Лоранс за маленькую богиню сонного царства. Нати перебралась в кровать к сестре, прижалась к ней, вдыхая знакомый тонкий запах.
Сколько она себя помнила, они с сестрой были не разлей вода. Даже одежду мама покупала им одинаковую, лишь цвета разные. Нати одевали в красное, лиловое и розовое, а Лоранс – в голубое, или бирюзовое, или белое. Лоранс была старше Нати года на полтора, но Нати казалось, что она и Лоранс – близняшки. Они не были похожи внешне, Нати – тонкая смуглая брюнеточка с мaлeньким носиком и пухлыми щёчками. У Лоранс же светлые волосы с лёгким огненным оттенком, громадные зелёные прозрачные глаза и светлая, чуть светящаяся кожа, какая бывает только у по-настоящему рыжих.
Их сходство заключалось где-то глубоко внутри. Часто Нати начинала предложение, а Лоранс его заканчивала. Им постоянно в голову приходили одни и те же мысли, и даже шалили они абсолютно одинаково. Так что доставалось обеим, даже когда виновата была одна, так как истинную виновницу не нашёл бы и Шерлок Холмс со своим знаменитым методом дедукции. Нати начала читать очень рано, и Шерлок Холмс был её любимым героем.
Мама умерла в прошлом году в страшных муках. Девочек растили отец и тётя, родная сестра матери, которой к тому времени исполнилось тридцать пять. Отец, известный в городе адвокат, видел девочек в основном по субботам и воскресеньям и был с ними необычайно ласков. Тётя же, наоборот, была сурова и строга. Никогда не имевшая своей семьи, она проводила с девочками практически всё время, вложив нерастраченную энергию в их воспитание.
Голландия, 1930 г.Злые, бессильные слезы непрерывно лились из карих глаз. «Он отбирает её у меня насовсем. Увозит за тридевять земель, в эту пустыню, где только и есть что верблюды да бедуины. Подумать только, модница и красавица Лоранс с её молочной кожей, рыжей копной волос и экстравагантными нарядами в пустыне с верблюдами. Она совсем сошла с ума из-за этого омерзительного янки. И что она в нём нашла-то!»
Нати попыталась унять рыдания. Она сидела перед трюмо в спальне в красном платье с глубоким декольте, которое скорее подошло бы взрослой женщине, чем юной девочке. Ей недавно исполнилось восемнадцать, и с тех пор она всеми силами пыталась показать свою взрослость и независимость.
А ведь ещё год назад ни о чем подобном не было и речи. Пока Лоранс не встретила Жозефа на одной из вечеринок, которые они так полюбили за последние два года. С тех пор как Лоранс исполнилось восемнадцать, ей и младшей сестре за компанию были официально разрешены выходы в свет.
Жозеф был ярым сионистом и заразил этим вирусом и Лоранс. Они решили пожениться и отправиться в Палестину.
«Только вот про меня сестрица как-то слишком быстро забыла». Нати усилием воли остановила солёный водяной поток. На свадьбе будет Курт, и нельзя, чтобы она выглядела зарёванной и опухшей, как последний пьянчуга. Она умылась холодной водой, постояла у окна, успокаиваясь, глядя на зелёный благоухающий сад, где цвела вишня и стоял густой, чуть сладковатый аромат. Они жили в замечательном, тихом месте. В воздухе разливалась весенняя бодрящая прохлада. Пение птиц, казалось, проникало Нати прямо в душу. Природа всегда была лучшим лекарством. Умиротворение и смирение с неизбежным снизошли на неё, и она решила отдаться течению волн. Против них ведь всегда так тяжело плыть…
Мысли её переключились на Курта. Он был старше её лет на семь, работал помощником её отца и, несмотря на молодость, сумел завоевать себе отличную репутацию. Но самое главное в Курте было то, как он смотрел на Нати. Когда она ловила его взгляд, то чувствовала себя покорительницей Вселенной. Казалось, все сокровища мира лежат у её ног, и если она захочет, то и вон та звезда, и луна, и солнце остановятся ради неё. Взгляд его, всегда жёсткого, харизматичного молодого человека, превращался вдруг вo взгляд маленького беззащитного щенка. Казалось, он молил: «Поиграй со мною, хоть капельку». Эта беззащитность, однажды замеченная Нати, проникла ей глубоко под кожу, отдалась тянущей сладкой болью внизу живота и наконец достигла своей цели, став частью её натуры, достигнув самых неизведанных глубин её сердца.
Кроме этих взглядов, между Нати и Куртом ещё ничего не произошло. Но они оба обладали сокровенным знанием, словно уже заглянули в будущее. Они связаны неразрывной нитью, и между ними очень скоро случится то, что обязательно должно случиться.
Нью-Йорк, 1940 г.Нати погладила свой круглый громадный живот, и в который раз взгляд её непроизвольно опустился на фотографию, стоящую на прикроватной тумбочке. С чёрно-белого снимка на неё смотрел молоденький, хорошенький рыжий мальчик в коротких шортах и футболке. В руках у мальчика была лопата, он стоял посреди поля и задорно улыбался. И лишь лёгкое несоответствие в районе грудной клетки выдавало в пацанёнке молодую женщину. Нати вглядывалась в фотографию снова и снова, словно пытаясь найти в этом Гавроше свою Лоранс, красавицу и модницу. И эта девчонка – мать троих детей?
Нати переместила взгляд на висящую на стене фотографию собственного семейства, сделанную около полугода назад. Серьёзный, подтянутый Курт выглядел старше своих лет, рядом с ним расположилась сама Нати, чуть располневшая после очередных родов и уже беременная ещё одним младенцем. В нижнем ряду – двое очаровательных деток: мальчик шести лет, Марк, и Эва – совсем ещё крошечная, глазастая девочка, чем-то неуловимо напоминающая маленькую Лоранс.
Нати вспоминала события недавнего прошлого. Как только Гитлер пришёл к власти, её муж решил срочно эмигрировать в Америку, благо связей у преуспевающего адвоката хватало. Более того, каким-то непостижимым образом он сумел уговорить отца и тётку, известных патриотов. В Америке Нати полностью погрузилась в тихое семейное существование, её с головой поглотили заботы о детях, о Курте, о стареющем отце. Она почти и не скучала о Лоранс. Та превращалась постепенно в призрак из её детства, в горько-сладкое воспоминание, и только редкие весточки из Палестины тревожили душу, напоминали о том, что кусочек её сердца оторван и услан за тридевять земель…
Курт, по-видимому, родился человеком, настроенным на успех. В Америке он поступил на работу в одну из самых известных нью-йоркских контор и, как и везде, где он находился, вскоре превратился в одну из ключевых фигур компании.
Но что-то мешало им всем наслаждаться безбедной светской жизнью. Что-то проникало в их души из тёмных углов мироздания, нависало над ними и их народом дaмокловым мечом и не давало ни вздохнуть, ни выдохнуть по-настоящему свободно. В воздухе стояло невероятное напряжение. Нати порой казалось, что она ощущает его не на метафизическом, а на вполне реальном, физическом уровне. У неё часто ныло где-то слева, в области сердца, хотя она и пыталась спрятаться и закрыться в своём таком надёжном личном пространстве тихого счастья.
Редкие письма Лоранс очень волновали Нати. Лоранс писала об опасности, о страшном испытании, выпавшем на долю европейского еврейства. Она писала и об ответственности, которая лежит на плечах евреев Палестины и Америки. Нужно что-то делать, писала Лоранс, Иосиф, так его зовут здесь, вступил в британскую армию, чтобы воевать с фашистами, a у неё самой есть важное дело, которым она занимается…
Нати чувствовала, что Лоранс многого не договаривает, но оно и к лучшему. В её положении Нати не могла бы вынести всей правды.
«Что я могу? Только позаботиться о Курте и детях. Я всего-навсего хрупкая женщина… Господи, отведи от нас все беды и несчастья! Дай нам силы выстоять и выжить!» И непонятно было даже ей самой, о ком она молится: о себе, о Лоранс или о тех шести миллионах, которым ещё предстояло умереть…
Письмо Лоранс к Нати. Израиль, Иерусалим, ноябрь 1950 г.«Здравствуй, моя девочка. Я давно не писала, прости меня, слишком много радости и горя выпало на мою долю за несколько прошедших лет.
Знала бы ты, родная моя, какое это счастье, когда дело всей твоей жизни даёт долгожданные, выстраданные, терпкие плоды. Какое ликование охватило нас всех, как мы почувствовали себя вновь единым народом, единым организмом. Свобода и независимость. Независимость от милости других, тех, кто показал своё истинное лицо во всей его красе. Зло, ненависть и равнодушие – вот удел слабых. И отныне быть нам сильными и защищать себя самим. Любовь моя, я знаю, что звучит это всё пафосно и, возможно, даже смешно со стороны, но если бы ты знала о рассказах тех, кто вернулся из ада, знала о зверствах, творимых «культурными» людьми, то не показались бы тебе эти слова ни нелепыми, ни смешными.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
