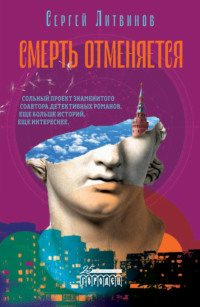
Смерть отменяется
– На такси и сразу домой.
– Спешили? Зачем?
– Хотела успеть, если честно, к Гарбузову заскочить.
– Вот как? Зачем вам было к убиенному заскакивать?
– Он классный. Веселый, остроумный, милый, глубокий. С ним так хорошо! Было – хорошо. И я надеялась – порой в глубокой тайне – что он бросит свою грымзу и женится на мне. Черт, я все утро пью за упокой его души. Видишь, сыщик, и бессмертие ему не помогло.
– А откуда вы узнали, что он мертв?
– Мне эта хабалка, Верка Васильцова, шепнула. Жена генерала, с их площадки. Гадина. Все про всех всегда знает.
– Может, это она его убила?
– Ой, нет. Мотива не было, да и смелости бы ей не хватило.
– А может, это сделали вы?
– А, я теперь подозреваемая! И поэтому вы мне больше не наливаете! И мне приходится с пустой рюмкой сидеть? Вы, что же, сыщик, не знаете, что подливать спиртное дамам – это привилегия и пре-ро-га-тива мужчин?
Я послушно нацедил ей еще армянского.
Она пригубила.
– Так все-таки? – настаивал я. – Вы спешили вчера вечером к себе домой, чтобы посетить Гарбузова. И?..
– К большому сожалению, он не мог меня принять. Он меня, грубо говоря, послал. Потому что к нему приехал его какой-то важный и любимый друг. Мужского, как он сказал, пола – и я ему поверила. Вообще-то Гарбузов не из тех, кто врет… Но кто он такой, этот друг, я не знаю, – при этом актрисуля сделала округлый жест в потолок, будто бы весь наш разговор кем-то записывается и поэтому ей приходится выбирать слова и выражения. – Да, не ведаю ни имени дружка Гарбузова, ни звания его. – А сама меж тем оторвала нижний край афиши, достала из ящика кухонного стола химический карандаш и написала на обороте: «Лев Станюкович, доктор биологических наук, приехал из Удельного». Протянула обрывочек этот мне.
– Значит, вы не знаете, с кем Гарбузов собирался встретиться? – вопросил я, потрясая бумажечкой.
– Ведать не ведаю, – отвечала она, мелко кивая: мол, он этот, записанный ею гражданин. Я хоть и считал, что конспирация излишняя – кому, интересно, придет в голову писать какую-то актрисульку, да не из самого заметного театра? – но игру девушки принял.
– Значит, именно с этим неизвестным Гарбузов вчера ночью встречался? И выпивал с ним?
– Именно.
Я знал, что такое Удельное, о котором упомянула Мария: абсолютно закрытый и секретный город в дальнем Подмосковье, на границе с Владимирской областью, где проводились и проводятся основные научные, исследовательские и экспериментальные работы по обеспечению бессмертия.
– Может, вы случайно знаете, где этот неизвестный остановился? Где сейчас проживает? Дома у себя в Москве или в гостинице?
– Не имею ни малейшего понятия.
– Значит, вы утверждаете, что именно с этим неизвестным академик Гарбузов провел вчерашний вечер? И, возможно, тот его убил?
– Или после их разговора Гарбузов убил себя сам.
– Спасибо. Вы очень помогли следствию.
Я встал.
– Подождите. В театр сходить хотите?
– Не знаю. Нет, наверное. Дел много.
– Когда с делами покончите, тогда и пойдете. Контрамарка всегда будет вас ждать. Только позвоните, хотя бы за день. Телефон у меня простой, как специально, чтобы поклонники лучше запоминали и чаще звонили. Впрочем, от них и без того отбоя нет. А выбрать некого… Итак, мой номер: двести сорок три – сорок три – тридцать четыре. Сразу запомните и навсегда. Меня вообще никто по жизни не забывает, сыщик.
– Ладно, я буду иметь в виду ваше милое приглашение.
«А почему нет, – подумал я. – Когда, конечно, это дело кончится. Жены у меня давно нет, да и девушки постоянной – тоже. Можно пощекотать свои нервы связью с пьющей актриской».
Я вернулся в квартиру с трупом. И его, и место происшествия уже описали и укладывали убиенного на носилки.
Я спросил у эксперта:
– Какие выводы? Убийство? Или он сам?
– Выстрел произведен с очень близкого расстояния. Пороховые газы оставили отметины вокруг входного отверстия.
– Значит, самоубийство?
– Лоб – нехарактерное место для самострела. Неудобное – самому себе в него палить. Обычно суицидники в сердце стреляют или в рот. Так что, может, и кто-то другой бабахнул – с очень близкого расстояния.
– Какой твой выбор? Какова вероятность того или другого события?
– По расположению входного отверстия – процентов шестьдесят-семьдесят за самоубийство.
– Понял тебя. А сейчас мне нужен телефон.
– Пользуйся.
Майор-участковый проводил меня в спальню Гарбузова, где на тумбочке у кровати, совсем как у меня, стоял аппарат. Правда, спальня у академика оказалась не в пример больше моей: и в ширину, и в высоту, и в длину. Вот только наслаждаться ею он больше не сможет.
Первым делом я позвонил в ЦАБ – Центральное адресное бюро, назвал свой пароль – у нас, у первого отдела МУРа, он был запоминающийся и со значением: «Серый волк». Спросил адрес по прописке гражданина Станюковича Льва. Через минуту мне ответили: таковой не значится. Я с подобным уже сталкивался, и это, возможно, означало, что уровень секретности товарища Станюковича таков, что даже мне, с моим допуском, не дозволено знать, где он прописан.
Хорошо. Но вряд ли, если он приходил вчера поздним вечером к Гарбузову, затем в ночь отправился за двести километров к себе в Удельную. Наверное, остановился где-то здесь, в Москве.
Я позвонил в одноименную гостиницу, то есть «Москву», на проспекте Маркса. Представился. Станюковича поискали в списках – но нет, не нашли. Тогда я перебросился на «Россию». И – о радость: да, сказали мне, такой товарищ зарегистрирован. Номер шестьсот одиннадцать, телефон такой-то.
Исходя из показаний актрисульки Крониной, к гражданину Станюковичу можно уже было ехать с нарядом и арестовывать. Но доктор биологических наук – это вам совсем не вор в законе. Вряд ли далеко убежит. Ничего страшного не случится, если я с ним предварительно побеседую. Кое-что проясню.
Я попросил портье соединить меня с комнатой, где проживал товарищ Станюкович. Тот оказался в номере и мне ответил. Я представился. Ученый переспросил, почему вдруг такой интерес у уголовного розыска к его персоне. Я ответил вопросом:
– Вы вчера встречались с академиком Гарбузовым?
– Было дело. С ним что-то случилось? Что конкретно?
– Я могу рассказать вам только при встрече.
– Вот как? Можете тогда сами приехать ко мне в гостиницу? Я, к сожалению, ограничен во времени. Прямо сейчас у меня небольшая встреча здесь, в отеле, а потом я готов увидеться с вами. Час дня вас устроит?
– Где?
– Давайте под открытым небом. Погода хорошая, прогуляемся. А сойдемся, например, у входа в кинотеатр «Зарядье».
– Идет. В час дня у «Зарядья».
Ничто в разговоре Станюковича не выказывало, что он как-то замешан в убийстве: ни волнения, ни страха. Выглядело, будто добропорядочный советский гражданин хочет оказать максимальное содействие органам.
Пока я разговаривал по телефону из спальни, прибыла труповозка, и теперь двое санитаров выносили из квартиры на носилках покрытое простыней тело.
Я попрощался с сотрудниками и сбежал вниз по лестнице.
До встречи у кино «Зарядье», которое, как известно, находится рядом с гостиницей «Россия», практически сопряжено с ним, оставалось еще полтора часа. Я сел за руль своей ласточки и не спеша вырулил на Кутузовский проспект. Развернулся у Москвы-реки и гостиницы «Украина», потом промчался по Калининскому, затем по проспекту Маркса мимо Манежа и Кремля – и менее чем через полчаса оказался на Солянке. Завтракал я, когда еще не было шести, поэтому заглянул в любимую рюмочную и заказал там бутерброды: с яйцом, килькой и корейкой. Водки брать, естественно, не стал. В рюмочной было шумно, многие курили, и классовый состав посетителей выглядел разношерстным: и закончившие смену таксисты, и сантехники в спецовках, и журналисты из близлежащей «Советской торговли», и даже, похоже, инструктора из рядом расположенного ЦК партии или тому подобные ответственные работники.
Ни с кем не вступая в контакт, я сжевал свои бутерброды, запил березовым соком и перебазировался вместе со своей ласточкой поближе ко входу в «Россию». Тормознул на пандусе, ведущем к въезду, – вообще-то останавливаться там запрещалось, об этом и знак извещал, и после колебаний ко мне даже подошел дежурный милиционерик. Ему я предъявил свои корочки и сказал, что запарковался ради оперативной необходимости, – тот с уважением отошел. На самом деле мне хотелось заранее посмотреть на Станюковича – почему-то не оставляла мысль, что я его узнаю. А пока, чтобы скоротать время, я достал из багажника дипломат и стал просматривать газетки. В «Советском спорте» был отчет об отборочном матче сборной СССР с Ирландией, и меня порадовало то, что вывод корреспондентов совпадал с моим (а я смотрел телетрансляцию, что вело центральное телевидение со стадиона имени Ленина в Киеве): победили наши уверенно и заслуженно. Скорее всего, на чемпионат Европы семьдесят шестого года они отберутся. А с чемпионом страны вопрос, несмотря на май и на то, что до конца сезона еще полгода, уже решен. Если чуда не произойдет, им станет, конечно, киевское «Динамо» во главе с Блохиным. Еще бы, если в сборной страны – одни киевляне. И эта команда только что европейский Кубок кубков выиграла.
Одним глазом я посматривал за входом в гостиницу. Вот вышла группа западных туристов, стала усаживаться в поданный им красный «Икарус». Вот двое нацменов в тюбетейках пошагали в сторону Красной площади. Вот величественный мужчина с портфелем и знаком депутата уселся в такси. От нечего делать я взял просмотреть «Правду». Как часто бывало в главной партийной газете, передовица посвящалась самой животрепещущей (по мнению пропагандистов из ЦК) теме. Заголовок гласил: «БЕССМЕРТИЕ – НА СЛУЖБЕ ТРУДОВОГО НАРОДА!» Глаз выхватил основные, хорошо известные и приевшиеся постулаты: «В отличие от стран, где правит капитал, а вопросом бессмертия распоряжается узкая кучка бессовестных политиканов и денежных мешков, вечная жизнь в нашем Отечестве принадлежит трудовому народу… Практически каждый гражданин Страны Советов может получить прекрасное право на вечную жизнь – надо лишь честно работать, беззаветно любить свою социалистическую Родину, аккуратно посещать собеседования-исповеди в соответствующих партийных органах…» Слова были такими же истертыми, как пять, десять или пятнадцать лет тому назад – когда с трибуны Мавзолея, при многотысячной толпе и прямой радио- и телетрансляции, выступил первоиспытатель вакцины, простой советский парень и старший лейтенант, всеобщий любимец Юрий Петрухин: «Докладываю нашей любимой партии и всему советскому народу, что испытание лекарственного препарата, обеспечивающего бессмертие, проведено УСПЕШНО! Я чувствую себя отлично и готов выполнить любое новое задание советского правительства!»
Сколько с тех пор народу было обессмерчено – оставалось закрытой информацией. Даже мы в МУРе ею не владели. Кое-кто спорил (но только среди своих): а получили ли бессмертие генеральный секретарь Молотов и другие члены политбюро – и большинство были уверены, что, конечно, да.
А двадцать второго апреля, в день рождения вечно живого Ильича, обычно проводилась Жеребьевка, к каковой допускали лишь достойнейших из достойных граждан СССР. Претендентов перед лотереей каждый год значилось сто, из них выбирали имена пятерых счастливчиков – их узнавала вся страна, и они становились героями бесчисленных «Голубых огоньков» и очерков в тысячах газет и журналов, от «Правды» до «Молодого коммуниста». Обычно один колхозник, один рабочий, один деятель культуры. Ну и опционально: нацмен, партийный лидер среднего звена типа секретаря райкома и, может быть, ученый, инженер или партийный журналист. Пять счастливчиков ежегодно – о которых все знали. И еще сколько-то безымянных героев, о которых не ведал никто. Награжденные бессмертием секретными указами.
А вот из гостиницы вышел мой Станюкович. Я никогда не видел его раньше, но почему-то оперативное чутье мне подсказало: он. Такой, знаете ли, с убитым Гарбузовым два сапога пара: в возрасте, но крепкий, стройный, уверенный в себе, занимающийся (видимо) каким-то экзотическим спортом типа горных лыж или альпинизма, но главное, ученый, всего себя посвящающий любимому делу: науке, поставленной на службу трудовому народу.
Я запер свою ласточку и быстро пошел следом за ним. Да, товарищ двигался в направлении кино «Зарядье»: от концертного зала «Россия» спустился по лестнице вниз, к набережной. Я на секунду подумал, что на нем сейчас висит как минимум одна статья, на выбор: убийство или доведение до самоубийства, – и напомнил себе быть с гражданином аккуратнее.
Я подошел к нему – мужик и вблизи оказался высоким, стройным, загорелым. Продемонстрировал ему удостоверение. Он экспрессивно воскликнул:
– Ради бога, скажите мне, что случилось? Что произошло с Андреем? С чем связан ваш интерес?
– Это вы мне расскажете. Вы ведь вчера с ним встречались?
– Да! Я был у него! На Кутузовском.
Мимо нас со смехом прошла молодая парочка.
– Пойдемте, – Станюкович увлек меня. Мы перешли проезжую часть набережной и оказались на том тротуаре возле гранитного барьера, у самой воды, куда обычно москвичи и гости столицы не добираются. Вот и сейчас на всем протяжении к Кремлю по нему шествовали не более двух человек.
– Расскажите о своем визите к Гарбузову. Когда пришли, когда ушли, о чем разговаривали. А начните с того, в каких вы отношениях состояли.
– Знаете, мы познакомились, еще когда Гарбузов лежал у нас на обследовании в Удельной. Какую-то мы друг к другу симпатию почувствовали. Ну и обменялись телефонами – хоть это против правил. И я всегда, как в Москве оказывался, Андрею звонил. Обычно мы встречались – иногда у него дома, а порой в ресторане. Вот и в этот раз: он настоял, чтоб я приехал. Даже свое собственное свидание с женщиной отменил.
– Хорошо. Во сколько вы у него на Кутузовском оказались?
Мы не спеша шли по направлению к Кремлю. На противоположной стороне Москва-реки дымила своими трубами МОГЭС-1, по фарватеру полз прогулочный теплоходик.
– Около восьми вечера.
– А ушли?
– Где-то в полдвенадцатого. Это легко проверить. Он по телефону вызвал мне такси.
– Значит, когда вы уходили, Гарбузов был жив?
– Жив! Вы говорите: жив! Он погиб?
– Около двенадцати ночи он, по всей видимости, пустил себе пулю в лоб. Что вы такое ему сказали? Такое, что он застрелился? Или это вы не уехали на вызванном такси, вернулись втихаря к нему в квартиру – и убили кореша?
– Ах, боже мой! Боже мой! – вскричал он, ломая руки. – Я не должен, не должен был ему говорить! Но мы оба выпили! Язык у меня развязался! А он так просил!
– Что же вы ему сказали?
– Он спросил меня, почему у него по онкологии плохие анализы – ему впрямую в больнице никто не говорил, но он чувствовал, что с ним что-то сильно не так. Как это вообще может быть: проблемы с онкологией, если он – бессмертный? Он же не должен умирать – совсем! А я сказал ему – научный факт, между прочим! – только у нас его изо всех сил замалчивают, да и на Западе стараются не афишировать. – Тут он оглянулся, но никто не слышал нас, ни единого человека не было в пределах видимости ни по нашему тротуару, ни по противоположному до самого Большого Устьинского моста. Машины мимо катили на довольно хорошей скорости, но и только. – Так вот: как показала практика, препарат Мордвинова, или в просторечии прививка бессмертия, действует, как оказалось, в среднем лишь примерно в шестидесяти процентах случаев. Остальные сорок процентов вакцинированных возвращаются к своему прежнему состоянию, и их, точно так же, как простых смертных, начинают одолевать болезни: рак, инсульт, инфаркт. Что там говорить! – Он снова оглянулся. – Вы знаете, что Юрий Первухин, любимый всем народом первоиспытатель, больше половины своего времени сейчас у нас, в клинике в Удельной, проводит? Мы потихоньку стараемся подтянуть его до параметров бессмертия – но не очень хорошо это удается.
– Значит, вы огорошили Гарбузова рассказом о том, что он, быть может, и не бессмертен вовсе. И это, возможно, стало толчком для его суицида.
– Поверьте! Я был очень аккуратен в выражениях! Поверьте! Но как я мог ему не сказать? Обмануть?! Мы же друзья!
Мы дошли до моста и по сигналу светофора перешли проезжую часть набережной на более людную сторону. Стал виден стоящий на Васильевском спуске, на фоне храма Василия Блаженного, еще один монументальный памятник трем вождям. Здесь гранитные Ленин, Сталин и Молотов сидели за круглым каменным столом и что-то обсуждали.
– Наверное, – вопросил я, – у вас там, в Удельной, все силы сейчас брошены на то, чтобы у вождей наших все с бессмертием оказалось тип-топ?
– Ох. Я и так вам слишком много рассказал. Я надеюсь, вы благородный человек – вы производите впечатление благородного! – и не станете меня сдавать за мою болтовню.
Мы поднялись обратно к гостинице и пошли вдоль ее фасада, выходящего на реку.
– Не уезжайте никуда из города, – сказал я биологу. – Вас должны будут формально допросить. И, я думаю, на официальном допросе вы выдавать секретные сведения нашим сотрудникам не станете. В ваших же интересах.
Мимо на малой скорости проехала черная «Волга» с буквами в номере «МОС». Где-то я ее уже недавно видел. «МОС» означало правительственная – или спецслужбистская. Мы дошли до нужного Станюковичу крыла гостиницы.
– Я выкурю еще сигаретку, – сказал он. – Вы ведь не курите, я понял по запаху.
– Давайте. – Мы пожали друг другу руки. Мне понравился этот мужик – хоть он и оказался фактически убийцей своего друга Гарбузова.
Я дошел до моей одиннадцатой модели, сел. И ясно увидел через лобовое стекло сцену – хотя она происходила очень, очень быстро. К Станюковичу подкатила черная «волжанка» – по-моему, та самая, с номером «МОС», из нее выскочили сразу трое спортивного склада молодых людей в костюмчиках, схватили ученого под руки и быстро забросили внутрь своего лимузина – ион умчался по пандусу на высоченной скорости.
Я тоже поехал – в сторону управления.
В своем кабинете я написал рапорт о расследовании (само)убийства Гарбузова. Разумеется, я умолчал о тех тайнах, что поведал мне Станюкович. Но написал, что считаю обязательным формально допросить его, – может, благодаря этому нам удастся вытащить его из лап КГБ?
Потом я оставил у Коробкина на столе – его где-то носило – сегодняшний «Советский спорт».
Затем взял у начальника отдела ключ от сейфа и достал оттуда свой Макаров и две обоймы. Положил пистолет в дипломат и отправился домой, на улицу Вешняковскую.
Как приехал, позвонил своему сыночку домой – его не оказалось, наверное, гоняет в футбол.
Набрал номер бывшей жены – она работала и выглядела страшно занятой.
– Постой, что ты хотел?
– Да так, ничего, просто проболтать.
А тот самый звонок раздался в дверь квартиры только в половине восьмого вечера.
Я глянул в глазок – многие, включая бывшую супругу, смеялись, что я его поставил, – а все-таки в итоге пригодилось.
На пороге, как я увидел в мутное стеклышко, стояли два подтянутых молодых человека в галстучках. Точь-в-точь как те, что арестовывали Станюковича. А может, те самые.
КГБ явно не собиралось, чтобы сведения о «неполноценном бессмертии» распространились от болтуна Станюковича дальше.
Я сжал рукоять Макарова.
Мне тоже совершенно не хотелось попадать им в лапы, во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, дом два.
Поэтому я приготовился к своему последнему бою. Я собирался дорого отдать свою жизнь.
Автор благодарен Максиму Токареву, который поделился сведениями, как были устроены в семидесятых годах прошлого века советский сыск и следствие.Угол Невского и Марата
Козлов Семен Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, пенсионер. Наши дниНа семидесятипятилетие мне подарили бинокль. Чудный, с цейсовскими стеклами.
И еще я решил переехать в самый центр города. Мне давно хотелось пожить где-нибудь на Невском, чтобы бурление города начиналось сразу за моим парадным и за фасадным окном квартиры. Напоследок пришла пора выполнить свое желание, себя порадовать.
Чем приятен наступивший капитализм, так это тем, что исполнить можно практически любую прихоть – были бы только деньги. А деньжата у меня водились – все-таки не зря я жизнь свою прожил. Кой-чего накопил, слава богу. На пенсии мог существовать как рантье – самый ненавистный Ленину класс.
В итоге я попросил сына, который управлял моим имуществом, и он снял мне на длительный срок, до лета, квартирку в центре Питера, дачу же мою в Репино на это время сдал – я еще и в выигрыше остался. Сын поселил меня на углу Невского и Марата, в квартире с высокими потолками и окнами, мраморными подоконниками. Жилье мне очень понравилось. Это не барак, в котором я вырос в Колпино, и не моя первая хрущевка, которую мы с Людмилой получили в шестидесятых на Новоизмайловском проспекте. Да и в Америке, в кондоминиумах в Хьюстоне, где я работал, и в Лос-Анджелесе, где преподавал, потолки были низенькие, комнаты тесные, покрытые ненавистным ковролином, от которого у меня аллергия. Но тут – квартира мечты. Стены в три или четыре кирпича, широченные подоконники. Громадные окна вышиной в два с половиной метра. Никаких шумов от соседей, только равномерный гул с проспекта.
Вдобавок – с юности знакомый район. Когда-то, приезжая из своего рабочего пригорода на Московский вокзал, именно по этому проходному двору я бежал на Невский в «Колизей» и «Художественный»; тут, в громадном дворе с многочисленными подворотнями, ведущими в него с Пушкинской улицы, покуривал на лавочках среди сирени, а иной раз пил портвейн, водку и целовался. Теперь моя жизнь, в течение которой случалось мне квартировать и в Москве, и в Берлине, и в Нью-Йорке с Парижем, в основном прожита. Она сделала виток, и я снова оказался тут, между Пушкинской, Невским и Марата, – только через подворотни уже не пройдешь свободно. Они закрывались мрачными решетками: хочешь воспользоваться – нужен ключ-домофон. Впрочем, замки в подворотни, ведущие к нам во двор с Пушкинской улицы, все время ломали, поэтому те, кто знал секрет, все равно через дворы шастали.
В квартире моей имелись тихая спальня и кухня – окнами во двор, а вот окна гостиной выходили прямо на угол Невского и Марата. И всегда можно было от нечего делать рассматривать из окна бурно кипящую городскую жизнь. Я устраивался на своем кресле чуть в глубине комнаты, так, чтобы меня не было видно с улицы, и наблюдал. Иногда вооружался биноклем.
Днем на углу постоянно околачивался мужик-«бутерброд», рекламирующий обмен валюты на Марата, тринадцать. Он приходил на рабочее место со своей табуреточкой и часто посиживал на ней, отдыхая. Иногда его сменял человек с огромным плакатом: «Издадим любую книгу!». Или другой гражданин, указующий огромной стрелкой на ближайший «Макдональдс». Ближе к вечеру эти трудящиеся исчезали и на углу появлялась старуха, вся закутанная в пальто и платки: продавала ослепительно желтые нарциссы и веточки вербы. Старуха была похожа на мужика – высокая, как гренадер, и с жилистыми руками. Торговля шла у нее не бойко – чаще она безропотно давала справки приезжим.
Интересно было наблюдать за толпой, плотно идущей по Невскому. У светофора на переходе через Марата она останавливалась, накапливалась в ожидании зеленого сигнала. Я рассматривал лица людей – не ведая, что за ними наблюдают, они жили своей жизнью: говорили между собой, в наушники или по телефону. Толпа постепенно набухала. Потом загорался разрешительный сигнал светофора, зеленый человечек на табло начинал сучить ножками. На переход отводилось ровно тридцать три секунды. Толпа густо шла через Марата, а потом, на финальный отсчет зеленых секунд, бежали опоздавшие. Затем вспыхивал красный, и три полосы машин устремлялись с Марата налево на Невский, одна полоса – направо. Около пяти-шести вечера троллейбусы и авто не успевали проехать по Невскому, загораживали перпендикулярную улицу, и среди поворачивающих на проспект начиналось истерическое бибиканье. Сигналили без зазрения совести, как в каком-нибудь Каире. На перекрестке случалось то, что американцы называют traffic jam – джем, варенье из машин, когда два потока чудным образом перемешивались. И пешеходы, когда загорался зеленый для них, лавировали среди лимузинов.
А потом для народа, идущего косяком по Невскому, все повторялось по новой: ожидание – накопление – движение. И они, эти люди, которых я наблюдал в бинокль или собственными глазами, исчезали из моей жизни, и больше никого из них я не видел.
К вечеру публика сильно менялась. Те, кто шли по Невскому днем – деловитые, спешащие, озабоченные – превращались в расслабленную, гуляющую толпу. Впрочем, отчасти тоже озабоченную, но другим – куда бы забуриться, с кем бы повстречаться. Они, эти вечерние фланеры, были намного моложе дневных, они чаще смеялись, а временами даже целовались, ожидая сигнала светофора.

