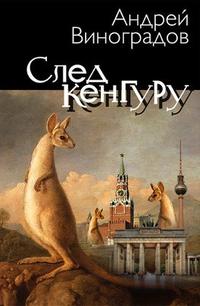
След Кенгуру
Бог миловал, необычность собственной позы он не заметил.
– Ну. – отец хотел добавить «балерун», но вовремя спохватился, – излагай.
Антон заговорил сбивчиво и непоследовательно, хотя вроде и подготовился, все продумал, слова умные подобрал – про трудное детство, нехватку родительского внимания, прочую «заумь».
Судьба, наверное: где только ни будет учиться Антон в своей жизни, но ему так ни разу и не удастся блеснуть по-настоящему ярко, если основательно подготовится по предмету. Соберет урожай пятерок, и вроде заслуженно, но не полыхнет искрой божьей, – блекло. Придраться не к чему, скучно. Чинуша мечты. Зато как легко ему станут даваться экспромты! И не только в аудиториях. И не только в мужских компаниях. И не только в дневное время. И не только, когда подшофе.
С другой стороны, изложил он свои проблемы отцу хоть и путано, зато откровенно. Даже про Агапову вспомнил. И о том, что рыжие обладают ни на что не похожим запахом, лучше цветов, – тоже из виду не упустил.
Старший Кирсанов слушал Антона молча, время от времени теребил мочки ушей. Сначала его беспокоила левая, потом переключился на правую. Почему-то именно эта деталь больше других запомнилась сыну, будто в выбранной отцом последовательности был скрыт потаенный и крайне важный смысл. Пройдет время и Антон догадается, что таким образом отец проверял: это в самом деле с ним происходит? Уж не сон ли? А однажды сам поймает себя на бессознательном повторении отцовского жеста – во время торжественной линейки восьмиклассников, сдавших свой первый в жизни экзамен: «Не может быть?! Сдал.» Потом отец без всякой цели застегнул и снова расстегнул верхнюю пуговицу на домашней фланелевой рубашке и поинтересовался:
– У тебя все?
– Все.
– Послезавтра, в праздник, на дачу поедем.
Среагировал странновато, можно сказать, невпопад, но могло быть и хуже: что-то уж больно разоткровенничался с ним сын. Антон и сам от себя такого не ожидал.
Моя покойная матушка говорила в таких случаях: «Ну все, понесло- поехало.», а бабушка часто крестилась и повторяла: «Свят-свят.». При этом делала вид, что смотрит в окно, и натуральный ее испуг не имеет ко мне отношения. Убейте, но не вспомню, чего уж такого инфернального я мог в те годы наговорить. А может быть, потому и не помню, что отмолила бабушка мои детские глупости и, похоже, юношеские. И часть взрослых.
Бабуля Антона, как было заведено в семье Кирсановых, все это время «паслась» в коридоре, под дверью, по-своему расценив тот факт, что мужчины уединились. Расслышав отцовскую реплику про дачу, дверь приотворила, чтобы в щель лицо поместилось – на голове бигуди, у открытой духовки сушилась, сорвали с насеста, – и встряла:
– Говорила тебе, сынок, странный он у нас, а у тебя все никак времени нет. Рано ему еще хандрить! А ведь хандрит, стервец! Еще как хандрит. Лупить надо чаще, и не жалеть. Все горечи через жалость.
И на десерт всхлипнула.
Про пионера и жопу не вспомнила, оправдала надежды Антона.
А вот «мужской разговор» – нет, не оправдал надежд.
Бабкиным чаяниям – плохо молилась – тоже не суждено было сбыться: не за что было в тот вечер пороть Антона. Впрочем, звучит это не слишком правдоподобно. Скажем так: существующий повод Кирсанову старшему был не ведом. Мог, конечно, Герман Антонович уважить мать и несильно выпороть наследника просто так, для профилактики, которая еще никому, имея ввиду родителей, не вредила. Мог. И при этом каждый бы мучился думой – «за что?», перебирая в уме возможные варианты, отмечая на мысленных полях крестики, галочки. Ведь не те это поля, где нагуливают жирок вопросы без ясных ответов. Но сдержался старший Кирсанов. И хорошо.
Вот же вредная бабка!
Лучший Антошкин друг
Лучший Антошкин друг и сосед по подъезду Санька тоже, как и старший Кирьянов, не въехал в «исповедь», не уловил сути, хотя с ним, казалось, Антон был еще откровеннее; родителям ведь не все без утайки расскажешь – чревато. Особенно если матом.
– Подрочи в гондон, чудило, попробуй – посоветовал Санька со знанием дела. – Отвлечет. Чума как клево, ни на что не похоже, и на пододеяльнике следов нет. Тебе дать один? У меня последний. Незапечатанный, но чистый…
Антон взял. Саньке – хорошисту по русскому и истории и незаменимому подсказчику в текущем школьном сезоне, странно было бы не доверять, мог обидеться. Тогда – труба дело.
Эксперимент не увлек. Больше того, исполнившая предназначение резина категорически отказывалась тонуть в унитазе, гадость эдакая. Она цеплялась за жизнь, надувалась пораженным катарактой глазом и насмешливо им в Антона пялилась. Пришлось вытаскивать ее из толчка, преодолевая рвотные спазмы, хоть и не неженка – собачье говно руками на спор подбирал, и прятать в комок туалетной бумаги. Потом Антон полчаса выпасал момент, чтобы в кухне не было никого – отдельная драма, – запихнул последствия забав в надорванную вощеную пирамидку из под молока и добровольно, чего раньше никогда не бывало, вынес полупустое мусорное ведро. Закрыв смердящий зев мусоропровода и вытерев о штаны руки, наконец-то расслабился.
Ему повезло: обитатели квартиры семейства Кирсановых лишь чудом не отметили чрезвычайно подозрительную активность младшего.
Надо было что-то сказать Саньке, тот дважды досаждал другу по телефону, издергал своим «Ну как?». Врать дальше не было смысла – впереди разгильдяев, двоечников и прочих «залетчиков» ожидал титанический труд над ошибками, в том числе совершенными в диктанте за четверть, и Антон, мальчик в меру корыстный, обнял друга Саньку со всей искренностью:
– Факт отпустило. Спасибо тебе огромадное, друг. А то заманался я. Не знал уже, что и делать.
Увы, искренность порой губит дружбу, и через несколько дней Санька перестал быть лучшим среди друзей Антона. Сначала он отказался принять на веру, а потом и вовсе с недопустимой горячностью отверг выстраданную Антоном теорию о неповторимости запаха всех обитающих на планете рыжих – от тушканчиков до Агаповой. Агапова – это важно – во втором классе двинула Саньке портфелем по голове, и он хвастался, что на его макушке пожизненно отпечатался след от замка. Однако, не глядя на приобретенную уникальность, которой бы следовало дорожить, он рыжую Агапову с того дня невзлюбил и при случае обижал, утверждая, что она с ножками-палочками и копной ярко-рыжих волос похожа на подожженную спичку. Наверняка повторял за кем-нибудь из остряков постарше, сам бы не додумался до такого. Повторял, однако, с нескрываемым удовольствием, нравилось смотреть, как друг злится, а крыть нечем. К тому же Санька решил, что, раз у него рыжий кот, так и право судить обо всем, что касается мира рыжих, тоже принадлежит ему, по умолчанию. Теоретически, оспорить столь явную несправедливость и разрушить монополию друга было делом пустячным: взять, да самому завести зверушку домашнюю искомого цвета. Практически же, шансы подвигнуть семейство Кирсановых на участие в эксперименте находились за гранью реальности. «Бабка костьми ляжет, но в доме не будет живности», – безнадежно подытожил Антон. Хотя и такой исход – это о бабуле – чего-то да стоил, прости господи.
Несмотря на все разногласия, в отношениях двух друзей и к тому же соседей все было не так уж плохо до момента, пока Санька не заявил совершенно не к месту – мирно покуривали за сараями, – что если Агаповой нравятся такие идиоты и неучи, как Кирсанов, то он – автобус. Он, Санька, автобус, а его друг Антон – идиот и неуч. Сейчас бы Антон Германович как пить дать съехидничал: «То есть ты – автобус, а я, по всему выходит, водитель из гастарбайтеров?» Это сейчас. А тогда Антон не сдержался и устроил «автобусу» нехилую «аварию».
Так они с Санькой рассорились насмерть и насовсем. Другими словами – на все лето, до сентября.
Пока Антон силком тащил Саньку в ближайшую от дома травматологию, тот пускал злые пурпурные слюни и бормотал, что если Кирсанов когда-нибудь попадет под трамвай и ему отрежет ноги, то он, Санька, хоть и звеньевой в пионерском отряде, ни за что не будет накладывать на обрубки резиновый жгут, прекращая кровотечение. Вообще, вел себя друг, ставший бывшим, как форменная свинья – его же не бросили! Однако Антон все же справился с желанием вмазать Саньке еще раз – за ноги отрезанные и общую душевную черствость, и получил в результате достойный повод гордиться собственными великодушием и сдержанностью. Все одновременно.
На губу Саньке наложили три шва, а Антону погрозили детской комнатой милиции, потому что он, дурак, сразу же рассказал все как было. Опоздавшие заверения пострадавшего, что упал, мол, ударился, никто не принял всерьез. Наоборот, и ему, страдальцу с губой, разнесенной, будто сливу под ней «притоптал», тоже пригрозили милицией. За вранье. До милиции, впрочем, дело так не дошло, даже на нотациях сэкономили, оставили, наверное, для более подобающего случая или для других пациентов. А может быть, запас нравоучений иссяк, израсходовали за день. Или прокисли они, а свежих еще жать и ждать. Может же быть такое? Визит завершился напутствием пожилой и не очень опрятной медицинской сестры, сварливой, не утруждающей себя даже намеками на сострадание, каковое впрочем, не в чести в травматологических пунктах, в ночных дежурных стоматологиях, в пельменных, в армии и в бракоразводных процессах.
– Топайте уже отсюда, оглоеды, – сказала она. Из приличных семей, как я посмотрю. Вот из таких и растут шпана да бандиты.
Всю дорогу до дома Санька молчал, заморозка лишила его возможности шевелить языком, но по взглядам, которыми он исподтишка награждал обидчика, было ясно, что путь последнего к тройке по русскому будет непосильно долог и невероятно тернист. Антон же в это время переваривал слова медсестры, раздумывая над тем, что на бандита он совсем не похож, обычно о нем говорили: «мальчик выглядит таким положительным, а учится и ведет себя так плохо.», а вот Санька, нарочито державшийся сбоку, с перемазанной йодом и перекошенной физиономией – совсем другое дело. Санька – чистой воды шпана, не хватает лишь кепки с низко надвинутым на глаза козырьком. У Антона такая была, он ее не носил, не нравилась, вот и решил подарить Саньке.
«Не сегодня, конечно, но обязательно подарю. Ему в самый раз будет».
Угрызений совести за содеянное рукоприкладство Антон не испытывал, Санька нарвался сам, но утешить бывшего друга подарком казалось правильным.
«Все равно не сегодня.»
Не выдержал. Таком вынес из дому кепку, спустился вниз и засунул ее в Санькин почтовый ящик. Аккуратно засунул, чтобы козырек не замять. Туда же приготовился бросить коротенькую записку «ПБДС», что должно было означать «подарок бывшему другу Саньке», но в последний момент заподозрил, что заморозка могла охватить не только лицо, но и мозг бывшего друга, дописал в уголке понятное: «носи», а чуть ниже добавил еще одно: «не для дяди Леши».
Дядя Леша
Дядя Леша, неродной Санькин отец, встретил Антона вечером того же дня на лестнице, куда выходил покурить или передохнуть от говорливой и вздорной Санькиной матери. Встретил случайно, не похоже было, что поджидал. Мог бы, если надо, и домой подняться к Кирсановым. Они, правда, с отцом Антона не очень чтобы общались, но и не ссорились, не было такого. Так ведь и повода до сего дня не было. А Санька с Антоном с трех лет дружбу водили, с детского сада.
Не наябедничал, однако, дядя Леша, не зашел к Кирсановым. Сказал грустно:
– Совсем вы странные, дети. Мы ведь вас не такими задумывали. Другими.
Он поднял к грязному потолку, на уровень глаз, тонкую нежную руку – о таких говорят «аристократическая», такие же встречаются у чахоточных и иных доходяг, если отмыть и обстричь ногти. Поднял раскрытой ладонью вверх, будто держал в ней, робея от значимости момента, спутник, сердце Данко или, на худой конец, белого голубя мира. Смотрел тоже вверх, недолго, секунду-другую, ровно столько, сколько требовалось единственному собеседнику, как сейчас Антону, или множеству, как бывало по-видимому чаще, чтобы сосредоточиться на руке, и забыться, нафантазировать, разглядеть в ней то, что подсказывало воображение, захотеть вот так же.
Дядя Леша был известен в подъезде и, без сомнения, за его пределами тоже, тем, что никогда не кричал, не ругался. Ему не было нужды проявлять эмоции всякими привычными и, увы, примитивными способами: лишнее.
«Атавизм», – говорил. Никто другой не умел так обидно и уничижительно просто отмахиваться от собеседника… Жест и слово… Я и сам не знаю, правильно ли описал словом «отмахиваться» многослойное по сути действие. Есть на сей счет у меня сомнения. Так вот, он намеренно обрывал начатую фразу, бросая ее, как что-то там в царскую водку.
Что именно надо бросать в царскую водку я не помню. С какой такой целью все это делалось – тоже вылетело из памяти на волю и на веки вечные, как таблица Брадиса, суть происходящего с пестиками-тычинками, почему толщину дерева нельзя подчеркнуть количеством «н» в слове «деревянный», и еще многое-многое прочее. Наверное опыт такой был по химии. Да и не в царской водке, в конце концов, дело (она с краю), а в том – что в нее бросают! А также в том, что оно, брошенное, обязано добровольно раствориться без осадка. Ничего другого от брошенного в царскую водку не требуется. Лишь готовность принести себя в жертву. Как от сахара в чае.
Главным же в микро-спектакле дяди Леши было не умирающее в полете слово, а жест! Еще, пожалуй, кое-что значила мимика. Кое-что, но не все: гримаса мучительного страдания работала исключительно на «подтанцовке». Сама по себе она «зал не собирала», не могла собирать. Страдал дядя Леша не так убедительно, как шевелил руками и говорил.
Словно загипнотизированный, Антон наблюдал за свободным, исполненным подлинного трагизма полетом-падением ладони с переворотом вниз, будто стряхивали с нее что-то неловкое, стыдное даже. Спутник! Он же сердце Данко! Сам Данко! Голубь! Мир! Жизнь!
Вдребезги!
Все вдребезги!
Антон, как и требовалось, почувствовал себя морально раздавленным и уничтоженным: «Уж лучше бы наорал! Или подзатыльник отвесил!» Понимал при этом, что раньше Санькин рыжий кот накукует дяди Леше долгую или недолгую жизнь.
И ведь накуковали… Не кот, понятно, и не водитель молоковоза – тот всего лишь подсуетился и выполнил, чтобы земной срок, «накукованный» дяде Леше, тот не переходил. Совсем скудный срок отвели дяде Леше.
В день, когда молоковоз задавил его насмерть, Санька из принципа, хотя говорил почему-то «из солидарности», перестал пить молоко, но творожные сырки так и остались его любимым лакомством, ценимым выше мороженого. Антон никогда не мог понять, как так можно: где сырки и где мороженое?! А фамилия того шофера в самом деле была Кукушкин. Не вру. Клянусь.
Отец Антона сказал как-то о дяде Леше: «Не знал бы, что обычный месткомовский прыщ, подумал бы, что из киношных актеров». По тому, как сказано это было, каким тоном, обитатели квартиры Кирсановых в который раз убедились, что профсоюз у отца семейства явно не в числе фаворитов, да и актерское племя он тоже не сильно жалует. Зато с заполошной Санькиной мамой Кирсанов-старший был обходителен и вообще относился к ней с симпатией. «Казачка! – говорил. – Ее за три квартала слышно, кого хочешь перекричит! У меня на войне ротный был из казаков. Ух, какой голосище!» Трех солдат из части прислал в помощь – мебель к поминкам собирать по подъезду и свою, домашнюю, передвигать, чтобы было где рассесться.
Маму Санькину в те печальные дни было слышно чаще обычного, несмотря на основательность дома, его перекрытий и стен, и Антон пуще прежнего не понимал, что уж так восхищает отца в монотонной скороговорке на верхней октаве.
Поминки вышли показные и многословные. Герман Антонович после первых двух рюмок удалился под какой-то заминкой, не выдержал, да и старался не очень. Дома на вопрос «Как там?» сказал:
– Только дяди Леши не хватает.
Бабуля Кирсанова, судя по лицу, готовилась завести разговор, который мама Антона называла «шарманкой»: о том, как правильно будет ее проводить в мир иной и кто непременно должен быть приглашен на поминки, но потом передумала, пожала губы, будто на что-то обиделась, и ушла в свою комнату. Сообразила, что рассуждать о своих будущих похоронах, когда двумя этажами ниже реальная смерть, совсем не то, что изводить и дразнить домочадцев в обычный день.
Все это – гибель дяди Леши, поминки и неожиданная бабулина щепетильность – станет отметиной предстоящей осени. Антон к этому времени будет великодушно прощен своим другом Санькой, и опять станут на пару бегать по субботам в бассейн, где Санька будет скрытно завидовать, разглядывая в раздевалке «свежак» из Антоновых «боевых отметин».
– Первое сентября прогулял, ну ты помнишь. Не поверишь, только вчера узнали. Видал?! – расхвастается битый. Его плавки будут маскировать лишь ничтожно малую толику багровых полос. Карающая рука Кирсанова- старшего была, если судить по рисунку, крепкой, тяжелой, но «инструментом» – ремнем – владела не очень уверено, наверняка хуже, чем стрелковым оружием.
– Орал? – участливо будет спрашивать Санька.
– Еще как! – приосанится младший Кирсанов, отвечая на оба вопроса сразу. – Но отец орал громче. Я думал, у вас слышно.
– Не-а, – потянет Санька разочарованно, словно уснул в новогоднюю ночь раньше времени и пропустил «Мелодии и ритмы современной эстрады».
Натурально ведь, вот болван, будет Антону завидовать! Чуть позже признается, что не знает, как пойдет в армию таким неопытным, не приспособленным. ни к чему, что спит из-за этого плохо, так как страшно ему, и не хочется быть слабаком. Антон в шутку пообещает похлопотать, уговорить отца преподать Саньке по-соседски пару уроков «мужской выучки». Санька же сникнет и скажет в ответ серьезно:
– Ты понимаешь, Тоха. Дядя Леша не поймет, обидится.
Жить дяде Леше на тот день оставалась неделя.
Герман Антонович, когда подошел срок, вопреки своим убеждениям – неравнодушен к казакам и казачкам – выправил Саньке «белый билет», и тот вместо армии остался с матерью, хотя «вечерников» призывали всех, а завзятых «ботаников» типа Саньки, отчего-то в первую очередь. Из вредности, наверное. Больно раздражали они военкомов своей очевидной неприспособленностью ни к дисциплине, ни к службе вообще. Вот и напоминали себе военкомы про «сказку», которую следует «сделать былью», имея ввиду «жизнь» и «ад», это всего лишь вопрос выбора слов. Кстати, о словах: таких слов как «ботаник» или «ботан», в модной лексике того времени не было, зато армия была советской и непобедимой.
Разговоры на трудные темы
Разговоры на трудные темы никогда не манили Антона, что роднило его с большинством населения нашей планеты, а уж с матерью он и вовсе старался их избегать. Если доводила судьба до края и зажимали его на кухне между фартуком и холодильником, то юлил, не откровенничал, чаще просто молчал, как партизан, обижал мать скрытностью и сам обижался на «буку». Учён был с малолетства. Обмишулился раз, дал слабину, открылся. Еще в детском саду было дело. Потом все знакомые семьи Кирсановых спрашивали сочувственным шепотом:
– Что, Тоха, в самом деле – молния сверкнула, а ты и обкакался? Прямо вот так?
При этом каждый интересующийся считал своим долгом потрепать его ласково по вихрам, а Антон ненавидел причесываться, и в утешение непременно делился какой-нибудь схожей, «стыдной» историю из своего детства, чаще всего на ходу и придуманной. Но даже если не выдумки это были, чужой позор ни коим образом не уменьшал его собственный. Лишь еще раз напоминал о самой оплошности, о неловкости жизни полдня без трусов, в одних шортах, трусы сохли, и обиде на маму, растрезвонившую о неприятности, случившейся сыном, всем и вся.
Вот что характерно: стоило Антону промолчать про грозу, опустить эпизод с молнией, сократив происшествие до голого факта – «обосрался и все», как событие в миг оказалось бы лишено интриги, становясь заурядным, а значит неинтересным: «С кем не бывает подумаешь, ну съел парень что-то недоброкачественное, может с пола поднял, и – здасьте.» Этим премудростям Антон научится позже, пока же ему хватило простецкого знания, что столь сложные материи, из каких соткан был состоявшийся- несостоявшийся «мужской разговор», не предназначались для материнских ушей.
По мне, так зря перестраховался мальчуган, не того опасался: поделись он с матерью мыслями и рассуждениями, которыми одарил отца, оторопь бы нашла на бедную женщину, или икота, а может что и похуже. Но если бы Светлана Владимировна счастливо пережила стресс и пожелала бы поделиться услышанным с милыми сердцу подругами, то на большее, чем «Вот шалопай! Такой трудный возраст.» ее бы все равно не хватило – красноречивые откровения сына пересказу не поддавались. Я, к примеру, выслушал монолог Антошки Кирсанова в исполнении Антона Германовича, скажем так – в зрелом возрасте, да и «причесал» он его худо-бедно нажитым опытом, но и то, бог свидетель, с трудом пробивался к сути, а может быть сам придумал ее по-быстрому, когда понял, что мозг вот-вот закипит. Маму его, Светлану Васильевну, я искренне пожалел: точно – редким «букой» был ее Тошка, с такими ой как трудно приходится. Однако же, и товарища поддержать хотелось, не просто так, смею думать, поведал он мне эту часть истории. И вот что я ему рассказал. Или только хотел рассказать, но «скомкал» тему? Неважно.
Бытует мнение
Бытует мнение. Само слово «бытует» уже звучит, как начало эпоса об унылой, но сытной жизни моли в складках зимней одежды. Итак, бытует такое мнение, что мужской шовинизм чуть ли не часть нашей интернациональной-национальной культуры. Мне и самому доводилось слышать эти строго произнесенные, но по сути пренебрежительные слова от разных женщин – русских, не очень русских (эти клеймили мужской шовинизм «махровым»), и совсем не русских. Иностранки – вот уж странность, так странность – все как одна ссылались на труды графа нашего Льва Николаевича Толстого. Вероятнее всего, они пребывали в непоколебимой уверенности, что раз изобразил Лев Николаевич несметное число человеческих судеб, людских мыслей, томлений и поведений, то и сексизм вряд ли упустил из виду, потому как дотошен был сверх всякой меры. А уж коли заметил граф такой огрех общества, то и осудил его, как водится. Все русские гении обязательно и пренепременно что-либо осуждают, невольно культивируя тем самым порок, так как нет, всем известно, плода, вкуснее запретного. Как нет и вернее пути записаться в классики, чем обличать и вновь обличать людские пороки, потому что нет под луной ничего более живучего и неистребимого, вот тема и не устаревает.
Ну как-то так. Длинно вышло, но вроде бы складно. Выдохну.
Забыл упомянуть. Раз при мне одна дама приписала Льву Николаевичу авторство «энциклопедии русской жизни», на что я скромно заметил, что это Пушкин, что он хоть и не граф, но зато «наше все», и получил в ответ:
– Именно об этом и речь, вы, мужчины, все знаете лучше всех!
Вынужден, имея в виду вольности современных нравов, обозначить, что антураж для таких непростых разговоров с дамами был исключительно деловым. Только работа, ничего вместо работы. И после работы, к слову, тоже ничего. Что само по себе могло запросто послужить мотивом для безоглядных атак со стороны противоположного пола. Так диктует мне гипертрофированная самоуверенность и бесспорное сексистское начало, да и вообще грех не съехидничать. Шутка. Под диктовку я со школьной скамьи не пишу, и мужской шовинизм давно уже меня не заводит.
Вообще я думаю, что гневные филиппики по поводу «мужчинского эго», водруженные словно гроб в похоронной процессии на плечи безропотных и услужливых классиков, бессмысленны – ничего не изменится. Не убедительно как-то звучат все это из женских уст. Меня, по крайней мере, эти речи не убеждают. Куда лучше, естественнее – никакого наигрыша! – женщинам удаются простые житейские реплики и восклицания. Особенно я бы выделил следующие:
«Ты где шлялся?!»
«Почему у нас в доме никогда нет денег?»
«Откуда ты только взялся, урод, на мою голову?!»
«Где твой шарф и левый ботинок?»
И универсальное: «Боже мой! Ты меня в могилу сведешь! Какой же ты стал скотиной!»
То есть, все-таки был шанс. Стал скотиной. А когда-то не был. Не справилась. Проморгала человека. А тут и Герцен, то есть классик в помощь: «Кто виноват?» Земной вам поклон, дражайший Александр Иванович.
Импульсивность, экспрессия, непосредственность женского проявления и есть их живая природа. Она привлекает, а все эти квелые, безжизненные и остывшие, как рыба на льду, культурологические и философские умозаключения – нет. «Не вставляет», – говорит в таких случаях дочь моих близких друзей – отличница, умница, воплощение феминизма. Знает ведь, о чем говорит, и формулирует, как всегда, откровенно и точно, я бы сказал – вызывающе точно.
Вот и все, что хотелось заметить по этому поводу с высоты последней четверти средних лет. А юный, да что там юный – маленький еще и неискушенный Антоша Кирсанов просто чувствовал: с женщинами лучше быть настороже. Природа предостерегала. Ну и детсадовский опыт ко всему прочему.