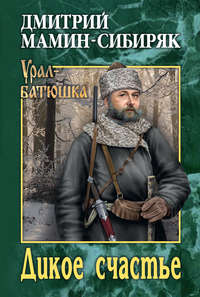
Дикое счастье (сборник)
«Пошла наша кума со сплетней, как курица с яйцом», – подумала Пелагея Миневна про Марфу Петровну, но сказать это вслух, конечно, побоялась.
А Марфа Петровна, торопливо переходя дорогу, думала о том, что авось она что-нибудь узнает у Савиных или Колобовых, а если от них ничего не выведает, тогда можно будет завернуть к Пятовым и даже к Шабалиным. Давно она у них не бывала и даже немножко сердилась, потому что ее не пригласили на капустник к Шабалиным. Ну, да уж как быть, на всякий чох не наздравствуешься.
Савины жили в самом рынке, в каменном двухэтажном доме; второй этаж у них всегда стоял пустой, в качестве парадной половины «на случай гостей». Сами старики с женатым сыном жили в нижнем этаже, где летом было сыро, а зимой холодно. Крытый наглухо, по-раскольничьи, широкий двор и всегда запертые на щеколду ворота савинского дома точно говорили о том, что в нем живут очень плотно. Старик Кондрат Гаврилыч немножко «скудался глазами» и редко куда выходил; всей торговлей заправлял женатый сын. Собственно, из этой семьи славилась сама Савиха, или Матрена Ильинична, высокая дородная старуха, всегда щеголявшая в расшитой шелками и канителью кичке. Красавица была в свое время и великая щеголиха, а теперь пользовалась большой популярностью как говоруха. Сама Марфа Петровна побаивалась бойкой на язык Савихи и выучилась у ней многим ораторским приемам.
– Ах, кумушка, наконец-то завернула к нам, – ласково встретила Матрена Ильинична гостью. – А мы тут совсем мохом обросли без тебя…
– То-то, поди, соскучились? – отшучивалась Марфа Петровна, стараясь попасть в спокойно-добродушный тон важной старухи. – Авдотья-то Кондратьевна давненько у вас была?
– На той неделе забегала под вечерок. Рубахи приходила кроить своему мужику. Дело-то непривычное, ну и посумлевалась, как бы ошибочку не сделать, а то Татьяна-то Власьевна, пожалуй, осудит… А что?
– Да я так сказала… живем из окна в окно, а я что-то давно не видала Авдотьи-то Кондратьевны. Цветет она у вас как мак, и Гордей-то Евстратыч не насмотрится на нее.
Марфа Петровна побоялась развязать язык перед Матреной Ильиничной, потому что старуха была нравная, с характером, да и милую дочку Дунюшку недавно еще выдала в брагинский дом, пожалуй, не ровен час, обидится чем-нибудь.
– А как Кондрат Гаврилыч? – тараторила Марфа Петровна, заминая разговор.
– Чего ему делается… – нехотя ответила Матрена Ильинична. – Работа у него больно невелика: с печи на полати да с полатей на печь… А ты вот что, Лиса Патрикеевна, не заметай хвостом следов-то!
– Я ничего, Матрена Ильинична… ей-богу… Я так сказала…
– Не заговаривай зубов-то, матушка, я немножко пораньше тебя родилась…
Делать нечего, Марфа Петровна рассказала все, что сама знала, и даже испугалась, потому что совсем перетревожила старуху, которая во всем этом «неладно» видела только одну свою ненаглядную Дунюшку, как бы ей чего не сделали в чужом дому, при чужом роде-племени.
– А я еще зайду к Колобовым; может, у них не узнаю ли что, – успокаивала Марфа Петровна. – А от них, если ничего не узнаю, дойду до Пятовых… Там уж наверно все знают. Феня-то Пятова с Нюшей Брагиной – водой не разлить…
– Ох, боюсь я за Дуняшку-то свою, – стонала Матрена Ильинична. – Внове ее дело, долго ли до какой напасти…
– Так уж я зайду к вам, Матрена Ильинична, как пойду обратно, и все выложу, как на духу.
– Ну, ступай, ступай, таранта.
Марфа Петровна полетела в колобовский дом, который стоял на берегу реки, недалеко от господского дома, в котором жили Пятовы. По своей архитектуре он принадлежал к тем старинным деревянным постройкам, со светелками и переходами, какие сохранились только в лесистой северной полосе России и только отчасти на Урале. В колобовском доме могло поместиться свободно целых пять семейств, и, кроме того, в подвале была устроена довольно просторная моленная. Старики Колобовы были только наполовину единоверцами и при случае принимали австрийских попов, хотя и скрывали это от непосвященных. Самойло Михеич вел довольно большую железную торговлю; это был крепкий седой старик с большой лысой головой и серыми, светлыми улыбавшимися глазами, – Ариша унаследовала от отца его глаза. Жена Самойла Михеича была как раз ему под стать, и старики жили, как два голубя; Агнея Герасимовна славилась как большая затейница на все руки, особенно когда случалось праздничное дело, она и стряпать первая, и гостей принимать, и первая хоровод заведет с молодыми, и даже скакала сорокой с малыми ребятишками, хотя самой было под шестьдесят лет. Вообще, веселая была старушка, гостеприимная, ласковая. В большом колобовском доме со старинной вычурной мебелью и какими-то невероятными картинами в золоченых облупившихся рамах все чувствовали себя как-то особенно свободно, точно у себя дома. Марфа Петровна особенно любила завернуть к Агнее Герасимовне и покалякать с ней от души: добрая, хлебосольная старушка не прочь была и посплетничать, хотя и сознавала, что это нехорошо. Да и как удержаться, когда подвернется такая сорока, как Марфа Петровна.
– Милости прошу, Марфа Петровна, давненько не видались, – встретила свою гостью Агнея Герасимовна. – Новенького чего нет ли? Больше нашего людей-то видите, – продолжала хозяйка, вперед знавшая, что недаром гостья тащилась такую даль.
Марфа Петровна вылила свои наблюдения о брагинском доме, прибавив для красного словца самую чуточку. В оправдание последнего Марфа Петровна могла сказать то, что сама первая верила своим прибавкам. Принесенное ею известие заставило задуматься Агнею Герасимовну, которая долго припоминала что-то и наконец проговорила:
– Чуть-чуть не захлестнуло… И ведь какая штука вышла! На неделе как-то наша пестрянка две ночи заночевала в лесу, ну, Самойло Михеич и послал кучера искать ее. Только кучер целый день проездил на вершной, а потом и приехал с пустыми руками. Стала я его расспрашивать, где и как он искал, – грешный человек, подумала еще, что где-нибудь в кабаке он просидел! Ну, кучер мне и говорит, что будто встретил он на дороге в Полдневскую Гордея Евстратыча. Я еще посмеялась про себя, думаю, и соврать-то не умеет мужик… А оно выходит, пожалуй, и правда!..
Это открытие дало неистощимый материал для новых предположений и догадок. Теперь уже не могло быть никакого сомнения, что действительно в брагинском доме что-то неладно. Куда ездил Гордей Евстратыч? Кроме Полдневской – некуда. Зачем? Если бы он ездил собирать долги с полдневских мужиков, так, во-первых, Михалко недавно туда ездил, как знала Агнея Герасимовна от своей Ариши, а во-вторых, зачем тогда Татьяне Власьевне было ходить к отцу Крискенту. И т. д. и т. д.
Одним словом, Марфа Петровна возвратилась домой с богатым запасом новостей, который еще увеличился дорогой, как катившийся под гору ком снега. Пелагея Миневна так и ахнула, когда услыхала, что Гордей Евстратыч сам гонял в Полдневскую. Теперь дело было уже яснее дня! Брагины хотят заняться приисками… Да! И главное, потихоньку от других. Хороши, нечего сказать, а еще суседи. Если бы не Марфа Петровна, да тут бог знает что вышло бы. Пелагея Миневна и Марфа Петровна так разгорячились от этих разговоров, что открыто начали завидовать несметным богатствам Брагиных, позабыв совсем, что эти богатства пока еще существовали только в их воображении.
– И вот попомните мое слово, Пелагея Миневна, – выкрикивала Марфа Петровна, страшно размахивая руками, – непременно все они возгордятся и нас за соседей не будут считать. Уж это верно! Потому как мы крестьянским товаром торгуем, а они золотом, – компанию будут водить только с становым да с мировым…
– Ну, про молодых не знаю, а что до Татьяны Власьевны, так она не такая старуха.
– Ох, не говорите, Пелагея Миневна: враг горами качает, а на золото он и падок… Я давеча ничего не сказала Агнее Герасимовне и Матрене Ильиничне – ну, родня, свои люди, – а вам скажу. Вот сами увидите… Гордей Евстратыч и так вон как себя держит высоко; а с тысячами-то его и не достанешь. Дом новый выстроят, платья всякого нашьют…
Обе женщины пожалели вместе, что вот им не достался же до сих пор никакой прииск.
Кроме этого, Пелагея Миневна лелеяла в душе заветную мысль породниться с Брагиными, а теперь это проклятое золото могло разрушить одним ударом все ее надежды. Старушка знала, что Алешке нравится Нюша Брагина, а также то, что и он ей нравится.
«Уж как бы хорошо-то было, – думала Пелагея Миневна. – Еще когда Алеша да Нюша ребятками маленькими были и на улице играли постоянно вместе, так я еще тогда держала на уме. И лучше бы не надо…»
Действительно, между Алексеем Пазухиным и Нюшей незаметно образовались те хорошие и дружеские отношения, под которыми тлела настоящая любовь. Собственно, стороны не давали отчета в своих чувствах, а пока довольствовались тем, что им было хорошо вместе. Детская дружба принимала форму более сильного чувства, и только недоставало у Алеши смелости, чтобы взять свое. Он был скромный и совестливый парень, а Нюша такая бойкая и красивая. В ее присутствии он каждый раз сильно робел и беспрекословно переносил всевозможные шалости, когда Нюша, улучив свободную минутку, встречалась со своим обожателем где-нибудь у ворот. Эти свидания происходили в сумерки. Нюша, накинув на плечи заячью шубейку, выскакивала за ворота и, по странной случайности, как-то всегда попадала на Алешу, который только и жил сумерками.
– Вот чему не потеряться-то… – смеялась Нюша, кутаясь в шубейку. – Носу нельзя показать без тебя, Алеша. Ты никак в сторожа нанялся в нашу Старую Кедровскую?
– У вас, Анна Гордеевна, всегда такие слова… как ножом по сердцу режете…
– Какая я тебе Анна Гордеевна?… Придумал тоже… А я так про себя всегда тебя Алешкой навеличиваю: Алешка Пазухин – и вся тут. Вместе в снежки, бывало, играли, на салазках катались… Позабыл, видно?
– Мало ли что прежде было… И теперь можно бы когда вечерком по улице на саночках прокатиться… Эх, лихо бы я вас прокатил, Анна Гордеевна!
– А бабушка-то?… Да она тебе все глаза выцарапает, а меня на поклоны поставит. Вот тебе и на саночках прокатиться… Уж и жисть только наша! Вот Феня Пятова хоть на ярмарку съездила в Ирбит, а мы все сиди да посиди… Только ведь нашему брату и погулять что в девках; а тут вот погуляй, как цепная собака. Хоть бы ты меня увез, Алешка, что ли… Ей-богу! Устроили бы свадьбу-самокрутку, и вся тут. В Шабалинских скитах старики кого угодно сводом свенчают.
Иногда Нюше доставляло громадное удовольствие хорошенько помучить своего обожателя, особенно в Святки, где-нибудь на вечеринке. У Алешки был соперник в лице Володьки Пятова, избалованного барчука, который учился в гимназии до третьего класса и успел отведать всяких благ городской цивилизации. С белоглинскими девицами, в качестве управительского сынка, он обращался совсем свободно и открыто ухаживал за Нюшей, которая дурачилась с ним напропалую, чтобы побесить Алешку. На то и Святки, чтобы дурачиться. По старинному обычаю, на белоглинских вечерах молодые люди открыто целовались между собой бесчисленное количество раз, как того требовала игра или песня. Даже сама строгая Татьяна Власьевна раз, когда Нюша ни за что не хотела целоваться с каким-то не понравившимся ей кавалером, заставила ее исполнить все по правилу и прибавила наставительно: «Этого, матушка, нельзя, чтобы не по правилу, – из игры да из песни слова не выкинешь… За углом с парнями целоваться нехорошо, а по игре на глазах у отца с матерью и Бог простит!»
Увертливый, смелый, научившийся всяким художествам около арфисток и других городских девиц, Володька Пятов являлся для застенчивого Алеши Пазухина истинным наказанием и вечным предметом зависти. В обществе этого сорванца Нюша делалась совсем другой девушкой и точно сама удивлялась, как она могла по вечерам выбегать за ворота для этого пустоголового Алешки, который был просто смешон где-нибудь на вечеринках или вообще в компании.
– Неужели он тебе нравится, этот чурбан Алешка? – иногда спрашивала Нюшу бойкая Феня Пятова. – Он и слова-то по-человечески не может сказать, я думаю… К этакому-то чуду ты и выбегаешь за ворота? Ха-ха…
– А что же мне делать, если никого другого нет… Хоть доколе в девках-то сиди. Ты вон небось и на ярмарке была, и в другие заводы ездишь, а я все сиди да посиди. Рад будешь и Алешке, когда от тоски сама себя съесть готова… Притом меня непременно выдадут за Алешку замуж. Это уж решено. Хоть поиграю да потешусь над ним, а то после он же будет величаться надо мной да колотить.
– Уж и нашли же вы сокровище… Где у ваших-то глаза, если так? Да я бы удавилась, а не пошла за твоего Алешку…
– Это все бабушка, Феня… А у ней известная песня: «Пазухинская природа хорошая; выйдешь за единственного сына, значит, сама большая в доме – сама и маленькая… Ни тебе золовок, ни других снох да деверьев!» Потолкуй с ней, ступай… А, да мне все равно! Выйду за Алешку, так он у меня козырем заходит.
– Вот если бы он в отца, в Силу Андроныча, уродился, тогда бы другое дело…
Сила Андронович Пазухин был знаменитый человек в своем роде, хотя и не из богатых; красавец, силач, краснобай – он был мастер на все руки и был не последним человеком в среде белоглинского купечества, даром что торговал только крестьянским товаром. В свое время об Силе Андроныче сохнули да вздыхали все белоглинские красавицы, и даже сама Матрена Ильинична, как говорила молва, была неравнодушна к нему. В Николин день, девятого мая, когда в Белоглинском заводе праздновали престольный праздник и со всех сторон набирались гости, на площади устраивалась старинная русская потеха – борьба. Это была настоящая церемония, в которой из года в год заводы соперничали между собой своими борцами. Приезжали из завода Курмыша, из Вязловского, из Плотицынского; со всех сторон набирался разный народ. И каждый раз в течение двадцати лет Сила Пазухин «уносил круг», то есть оставался победителем. В сорок лет Пазухин кончил эту молодецкую забаву и только под веселую руку иногда любил тянуться на палке, причем обыкновенно перетягивал всех. Теперь Силе Андронычу было под шестьдесят лет. Это был приземистый толстый старик с обрюзгшим лицом и кудрявыми волосами; прежняя красота заплыла жиром, а сила износилась. Не имея возможности тешиться прежними молодецкими забавами, как борьба и кулачный бой, Сила Андроныч пристрастился к лошадям и выкармливал замечательных бегунов киргизской крови. Купеческих лошадей с выгнутыми, как триумфальная арка, шеями он просто ненавидел. К недостаткам этого старика принадлежала, между прочим, его необыкновенная «скорость на руку», за что он платился сам первый. Семейных своих он не шевелил пальцем, впрочем, не из каких-нибудь гуманных побуждений, а просто из боязни порешить одним ударом. Зато прислуге, особенно подручным по лавке и кучерам, крепко доставалось от его скорости; поэтому у него кучера славились как самый отпетый народ, особенно один, по прозванию Ворон, любимец Силы Андроныча. Их сближение произошло довольно оригинально. Купил Сила Андроныч с оренбургской линии гнеденького иноходчика и стал его выезжать, а потом заметил, что иноходчик с тела спадает. Отыскав какую-то ссадину на лопатке, несомненное доказательство жестокого обращения Ворона, – Сила Андроныч захотел немножко поучить последнего, а наука короткая: положил нагайку в карман и – в конюшню к Ворону. Ворон что-то прибирал в конюшне, когда хозяин вошел к нему. Это был мрачный субъект, черный, как цыган, и с одним глазом. Сила Андроныч, прочитав приличное наставление своему любимцу на тему, что «блажен иже и скоты милует», для большей убедительности своих слов принялся опытной рукой полировать Ворона. Но Ворон не потерялся, а, схватив запорку от конюшни, быстро из оборонительного положения перешел в наступательное: загнал хозяина в угол и, в свою очередь, так его поучил, что тот едва уплел ноги в горницу.
– Молодец, если умел Сила Пазухина поучить… – говорил на другой день Сила Андроныч, подавая Ворону стакан водки из собственных рук. – Есть сноровка… молодец!.. Только под ребро никогда не бей: порешишь грешным делом… Я-то ничего, а другому, пожиже, и не дохнуть. Вон у тебя какие безмены.
Ворон и теперь жил у Пазухиных и пользовался неизменным расположением хозяина все время, хотя сам оставался туча тучей.
Сын Алексей нисколько не походил на отца ни наружностью, ни характером, потому что уродился ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Это был видный парень, с румяным лицом и добрыми глазами. Сила Андроныч не считал его и за человека и всегда называл девкой. Но Татьяна Власьевна думала иначе – ей всегда нравился этот тихий мальчик, как раз отвечавший ее идеалу мужа для ненаглядной Нюши.
– И хорошо, что не в отца пошел, – говорила она, – с таким бойцом жить – без ребрышка ходить… А нам не дорога его-то разгулка, а дорога домашняя потребность.
Глава VII
В брагинском доме было тихо, но это была самая напряженная, неестественная тишина. «Сам» ходил по дому, как ночь темная; ни от кого приступу к нему не было, кроме Татьяны Власьевны. Они запирались в горнице Гордея Евстратыча и подолгу беседовали о чем-то. Потом Гордей Евстратыч ездил в Полдневскую один, а как оттуда вернулся, взял с собой Михалка, несколько лопат и кайл и опять уехал. Это были первые разведки жилки.
Стояла глубокая осень; по ночам земля крепко промерзала. Лист на деревьях опал; стояли холодные ветры, постоянно дувшие из «гнилого угла», как зовут крестьяне северо-восток. Солнце не показывалось по неделям. Все в природе точно съежилось, предчувствуя наступление холодной зимы. Вот в один из таких дней Гордей Евстратыч с Михалком подъезжали верхами к Полдневской, но, не доезжая деревни, они взяли влево и лесистым увалом, по какой-то безыменной тропинке, начали подниматься вверх по реке. Гордей Евстратыч не хотел, чтобы его видели в Полдневской, где он недавно был – проведать Маркушку, который все тянулся изо дня в день, сам тяготясь своим существованием. Другие старатели, кажется, начинали догадываться, зачем ездил Брагин к ним, и теперь он решил не показываться полднякам до поры до времени, когда все дело будет сделано.
– Я бы теперь же сделал заявку жилки, мамынька, – говорил Гордей Евстратыч перед отъездом, – да все еще сумлеваюсь насчет Маркушки… Не надул ли он меня? Объявишь жилку, насмешишь весь мир, а там, может, ничего и нет.
– А ты бы съездил посмотреть шахту-то.
– Так и сделаем. Один-то я был около нее, да одному ничего нельзя поделать. Надо Михалку прихватить. Потому, первое, в шахту спущаться надо; а один-то залезешь в нее, да, пожалуй, и не вылезешь.
Проехав верст пять по реке Полуденке, путники переехали вброд горную речонку Смородинку и по ней стали подниматься к самой верхотине. Место было дикое – косогор на косогоре. Приходилось продираться через дремучую еловую заросль, где и пешему пройти в добрый час, а не то что верхом, на лошади. Даже не было никакой тропы, какую выбивают дикие лесные козлы. Осенью этот лес особенно был мрачен и глухо шумел, раскачиваясь мохнатыми вершинами. Трава давно поблекла, прибрежные кусты смородины и тальника жалко топорщились своими оголенными ветвями. Гордей Евстратыч ехал вперед, низко наклоняясь под навесом еловых ветвей, загораживавших дорогу, как длинные корявые руки. Вот и верхотина Смородинки, где эта речонка сочится из горы Заразной небольшим ключиком. Вот и увал, который идет от Заразной на полдень, а вот и те два кедра, о которых говорил Маркушка. Место дикое, кругом лес, глухо, точно в каком склепе.
– Здесь… – говорит Евстратыч, подъезжая к кедрам.
Они спешились. В нескольких шагах от кедров, на небольшой поляне, затянутой молодым ельником, едва можно рассмотреть следы чьей-то работы, именно два поросших кустарником бугра, а между ними заваленное кустарником отверстие шахты. Издали его можно даже совсем не заметить, и только опытный глаз старателя сразу видел, в чем дело.
Они осмотрели шахту, а затем очистили вход в нее. Собственно, это была не шахта, а просто «дудка», как называют неправильные шахты без срубов. Такие дудки могут пробиваться только в твердом грунте, потому что иначе стенки дудки будут обваливаться.
– Ну, теперь нужно будет лезть туда, – проговорил Гордей Евстратыч, вынимая из переметной сумы приготовленную стремянку, то есть веревочную лестницу. – Одним концом захватим за кедры, а другой в яму спустим… Маркушка сказывал – шахта всего восемнадцать аршин идет в землю.
– Как бы, тятенька, не оборваться, – заметил Михалко, помогая привязывать конец стремянки к дереву. – Я полегче вас буду – давайте я и спущусь…
– Нет, я сам…
На случай был захвачен фонарь с выпуклым стеклом, известный под именем коровьего глаза. Предварительно на длинной веревке спущены были в дудку лопата и кирка. Перекрестившись, Гордей Евстратыч начал по стремянке спускаться вниз, где его сразу охватило затхлым, застоявшимся воздухом, точно он спускался в погреб. Пахло глиной и гнилым деревом. Раскинув руками, он свободно упирался в стенки дудки. В одном месте сорвался камень и глухо шлепнулся на самое дно, где стояла вода. Верхнее отверстие шахты с каждым шагом вниз делалось все меньше, пока не превратилось в небольшое окно неправильной формы. Наконец Гордей Евстратыч стал на самое дно шахты, где стояла лужа грязноватой воды. Он зажег свой «коровий глаз», перекрестился и взялся за кирку. При ярком освещении можно было рассмотреть следы недавней работы и самую жилку, то есть тот кварцевый прожилок, который проходил по дну шахты углом. Куски кварца были перемешаны с глиной и охрой; преобладающую породу составлял отвердевший глинистый сланец с следами талька, железного колчедана и красика, то есть ярко окрашенной красной глины. Маркушка, добывая золото, сделал небольшой забой, то есть боковую шахту; но, очевидно, работа здесь шла только между прочим, тайком от других старателей, с одним кайлом в руках, как мыши выгрызают в погребах ковриги хлеба. Гордей Евстратыч внимательно осмотрел все дно шахты и забой, набрал руды целый мешок и, зацепив его за веревку, свистнул, – это был условный знак Михалке поднимать руду. Таким образом мешок спустился и поднялся раз пять, а Гордей Евстратыч продолжал работать кайлом, обливаясь потом. Его огорчало то обстоятельство, что нигде не попадаются такие куски «скварца», какой ему дал Маркушка, хотя он видел крупинки золота, вкрапленные в охристый красноватый и бурый кварц. Но все-таки это была настоящая жилка, в чем Гордей Евстратыч убеждался воочию; оставалось только воспользоваться ею. Он уже чувствовал себя хозяином в этой золотой яме, которая должна его обогатить. В порыве чувства Гордей Евстратыч пал на колени и горячо начал благодарить Бога за ниспосланное ему сокровище.
«Эх, не вылез бы отсюда», – думал он, в последний раз оглядывая свои сокровища ревнивым хозяйским глазом.
Но нужно было уехать засветло домой, и Гордей Евстратыч выбрался наверх, где его дожидался молчаливый Михалко.
Итак, жилка оказалась форменной, как следует быть жилке. Оставалось только заявить ее где следует – и дело с концом. Но вот тут и представлялось первое затруднение. Именно, по горному уставу, во-первых, прежде чем разыскивать золото, требуется предварительное дозволение на разведки в такой-то местности, при таком-то составе разведочной партии; во-вторых, требуется заявка найденной россыпи по известной форме с записью в книги при полиции, и, наконец, самое главное – позволяется частной золотопромышленности производить разведки и эксплуатацию только золота в россыпях, а не жильного. Конечно, при покупке заявленных приисков первые два правила не имеют значения, но ведь Маркушкина дудка не была нигде заявлена, следовательно, как же мог Гордей Евстратыч узнать о содержавшемся в ней золоте.
– А если возьму свидетельство на разведки золота да потом и заявлю эту шахту? – говорил Гордей Евстратыч, когда был в последний раз у Маркушки.
– Нет… невозможно, – хрипел Маркушка, не поворачивая головы. – Уж тут пронюхают, Гордей Евстратыч, все пронюхают… Только деньги да время задарма изведешь… прожженный народ наши приисковые… чистые варнаки… Сейчас разыщут, чья была шахта допрежь того; выищутся наследники, по судам затаскают… нет, это не годится. Напрасно не затевай разведок, а лучше прямо объявись…
– Да ведь мне не дадут работать жильное золото?
– Ах, какой же ты, право, непонятный… Знамо дело, что не дадут. Я уж тебе говорил, что надо под Шабалина подражать… он тоже на жилке робит, а списывает золото россыпным… Есть тут один анжинер – тебе уж к нему в правую ногу придется…
– Да кто такой?
– А Лапшин, Порфир Порфирыч… ты не гляди на него, что в десять-то лет трезвым часу не бывал, – он все оборудует левой ногой… уж я знаю эту канитель… Эх, как бы я здоров-то был, Гордей Евстратыч, я бы тебя везде провел. Ну, да и без меня пройдешь с золотом-то… только одно помни: ни в чем не перечь этим самым анжинерам, а то, как лягушку, раздавят…
– Не люблю я этих чиновников, Маркушка… Нож они мне вострый!
– Кто их любит, Гордей Евстратыч? Да ежели без них невозможно…

