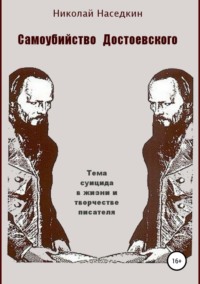
Самоубийство Достоевского. Тема суицида в жизни и творчестве писателя

От автора
Итак – Достоевский…
Казалось бы – сколько ж можно!
В 2001 году мир отмечает 180-летие со дня его рождения и 120-летие со дня смерти. За полтора века творчество его, на первый взгляд, изучено вдоль и поперёк – добавить просто нечего. Действительно, раздел «Достоевсковедение» в мировой литературе содержит тысячи и тысячи названий – их количество не поддаётся учёту.
Но творчество Достоевского, как и любого гения, неисчерпаемо. Неисчерпаемо, как, допустим, тема любви в поэзии или как жанр романа в прозе. Да и у каждого из нас, читателей и исследователей, – свой Достоевский. За тридцать лет боления Достоевским автор, как ему кажется, обнаружил в литературе о нём и его наследии значительные лакуны. По крайней мере, тема «Суицид в жизни и творчестве писателя» ранее в такой полноте не освещалась.
Портрет, личность, биографию писателя необходимо искать, в первую очередь, в его творчестве. Этот принцип и лёг в основу данной книги. Отсюда и обилие цитат из произведений, публицистики и писем самого Достоевского, сравнительно малое количество ссылок на другие источники и почти полное отсутствие полемики. Добавим, что можно делать открытия в литературоведении, копаясь в архивах и публикуя не известные ранее тексты, а можно сказать своё, в чём-то новое, слово и – работая с каноническими текстами. Искусство здесь состоит не только в умении правильно читать-вчитываться в давно знакомые произведения изучаемого автора, но и в точном выборе цитат, их соединении, сопоставлении, столкновении, чередовании, сравнении, толковании, расшифровке… И – в точном выборе интонации. Да, бывают в исследовательской работе и открытия на уровне интонации! Главное же, может быть, открытие, сделанное автором, состоит в том, что о творчестве Достоевского можно говорить-писать нормальным языком, без излишней тягомотной наукообразности – доступно для самого широкого круга читателей.
Данная работа охватывает всю жизнь-судьбу Достоевского от первого до последнего дня и всё его творчество— от первой до последней строки. И очень важно, что ключом в исследовании служил простой принцип, о котором следует помнить и читателю, а именно: следует воспринимать героев Достоевского как живых людей, ибо безусловные гении создают не просто литературные персонажи и типы, а именно – живых, полнокровных героев.
И ещё о гениальности. Прав незабвенный Козьма Прутков – нельзя объять необъятное. Как невозможно, к примеру, создать одну-единственную и всеобъемлющую карту целой страны, так невозможно и творца уровня Достоевского, Пушкина или Толстого «втиснуть» в одну исследовательско-биографическую книгу. Именно по этой причине потерпели неудачу Л. П. Гроссман и Ю. И. Селезнёв – авторы фундаментальных по объёму и замыслу биографий Достоевского в «молодогвардейской» серии ЖЗЛ. Именно этого избежал И. Л. Волгин, создав самую адекватную на сегодняшний день книгу-исследование об авторе «Братьев Карамазовых» – «Последний год Достоевского».
Поэтому автор поставил перед собою скромную задачу: добавить в создаваемый усилиями сотен литературоведов «Атлас Достоевского» (уж продолжим аналогию-метафору!) одну тематическую «карту». И выбор темы не был случайным – отнюдь. Именно самоубийство, эта одна из самых капитальных (любимое словечко писателя) тем в жизни человечества, проходит красной нитью (канатом!) через всё творчество Достоевского. Как раз через раскрытие этой магистральной темы в творчестве раскрывается очень характерно и личность самого писателя, получает дополнительное освещение его судьба-биография.
Автор заранее благодарен всем, кто прочтёт эту книгу, и будет рад, если она поможет глубже понять творчество, жизнь и личность самого, может быть, гениального писателя из когда-либо живших на Земле.
Итак – в путь!
Введение в тему
Смерть – конец земной жизни,
разлучение души с телом.
В. И. Даль
Смерть – прекращение жизни.
С. И. Ожегов
1
Самоубийство – хроническая мечта Достоевского.
Она преследовала его и доставляла ему неизъяснимое наслаждение всю его сознательную жизнь. И в этом нет ничего удивительного, ибо каждый мыслящий человек хотя бы раз в жизни думал о самоубийстве, а Достоевского с его болезненной гениальностью и гиперстрастной натурой жизнь буквально на каждом шагу заставляла бросаться в бездну отчаяния, толкала-подталкивала его к суициду. Но если у подавляющего большинства состоявшихся и потенциальных самоубийц весь предварительно-подготовительный этап на пути к самоубийству остаётся скрытым от посторонних, и их внезапный конец выглядит в глазах оставшихся жить-существовать на этом свете именно внезапным, диким и не поддающимся уразумению, то у людей творческих, и в первую очередь у писателей, их подсознательное, а затем и сознательное стремление к добровольному и преждевременному уходу из жизни всегда проявляется в творчестве, прочитывается явно.
Это легко доказать на примере тех творцов, кто, по официальной и общепринятой версии, и в самом деле точку в конце своей жизни поставили сами. Возьмём Маяковского. Та же Л. Ю. Брик, одна из самых близких ему людей, настойчиво утверждала-подчёркивала, что Владимир Владимирович постоянно твердил о самоубийстве, уже совершал попытки застрелиться до рокового апрельского дня 1930 года. И это несмотря на то, что, как пишет Л. Брик: «В Маяковском была исступлённая любовь к жизни, любовь ко всем её проявлениям – к революции, к искусству, к работе, ко мне, к женщинам, к азарту, к воздуху, которым он дышал»[1][1]. Тема самоубийства проходит красной нитью и через всё творчество поэта, что убедительно доказал В. Радзишевский в статье «Маяковский был обречён раньше, чем Сталин услышал его имя»[2]. Казалось бы, дело ясное: всю жизнь мечтал-хотел застрелиться и в конце концов застрелился-таки. Однако ж, в случае с Маяковским дело осложняется тем, что в последнее время появились уж очень убедительно-аргументированные статьи-исследования об убийстве Маяковского[3]. И если это так, то убийцы поэта очень ловко использовали-обыграли суицидальный комплекс в его творчестве, заставив автора поэмы «Хорошо!» жестоко поплатиться за поэтические заигрывания с роковой темой.
Легко доказать цитатами из стихотворений и поэм Есенина, что и он вполне логично и продуманно завершил свой земной путь. Конечно, неспроста же ещё в 1916 году он восклицал: «В зелёный вечер под окном // На рукаве своём повешусь…» («Устал я жить в своём краю»). Писал-сочинял подобные строки, а потом взял, да и «в петлю слазил в “Англетере”», как не совсем удачно выразился впоследствии знаменитый бард[4]. Но если согласиться с доводами тех, кто не сомневается в насильственной смерти Есенина, то, опять-таки, убийцам подло удалось всего только потенциального самоубийцу (каковые доживают и до ста лет) представить самоубийцей состоявшимся.
Но вот что поразительно: даже самому дотошному литературовьеду, вероятно, и в голову не придёт мысль искать-исследовать мотивы самоубийства в творчестве, допустим, Лермонтова и, уж тем более, – Гоголя. А ведь эти наши достославные писатели хотя в прямом смысле слова и не наложили на себя руки, но вне всякого сомнения «намеренно лишили себя жизни», – именно так поясняется слово «самоубийство» в словаре Ожегова. Автор «Героя нашего времени», не посчитав нужным самолично приставлять дуло пистолета к собственной груди, просто заставил-вынудил сделать это подвернувшегося под руку Мартынова. Не исключено, что среди иных всяких причин выбрать именно такой романтический вид самоубийства не последнюю роль сыграло стремление пылкого поэта повторить судьбу своего старшего собрата по перу. Фантастическая строка в его знаменитом стихотворении-некрологе выдаёт Лермонтова с головой: «С свинцом в груди и жаждой мести…» Ничего себе – в груди! Пушкин был ранен в самый низ живота, почти в пах… Так что, если вспомнить лермонтовское «И скучно и грустно…» – этот гениальный гимн самоубийству, и прочитать воспоминания современников поэта, зафиксировавших обстоятельства его «дуэли» с Мартыновым, то сомнений в его преднамеренном и сознательном лишении себя жизни и быть не может. (В записной тетради Достоевского есть-имеется неосуществлённый замысел: «“Какая пустая и глупая шутка”. Самоубийца хочет убить себя, ищет места» [5].)
С Гоголем исследователи его творчества вообще запутались, зашоренные стереотипным мышлением. Почему сжёг вторую часть «Мёртвых душ»? Да, видите ли, засомневался в её художественном совершенстве, а тут ещё некий протоиерей Константиновский настоятельно посоветовал рукопись предать огню… А почему так странно повёл себя перед смертью, от пищи начал отказываться? Да просто-напросто умопомешался… Ну, а если всё же вспомнить, как Николай Васильевич настойчиво твердил-повторял, что всё его предназначение в этом миру – литература, творчество. Он искренне был убеждён, эта мысль зрела и развивалась в голове его, не могла не развиться, что непременно он сразу же умрёт, как только исполнит предначертанное ему на земле. И если это так, то не есть ли акт сожжения выстраданной и законченной рукописи актом страха и отчаяния, страстным стремлением отодвинуть финал: я ещё не закончил, не завершил свой главный труд – я начну заново!
А насчёт последних дней… Ещё в прошлом веке исследователь феномена самоубийства французский учёный Эмиль Дюркгейм в своей фундаментальной книге «Самоубийство» (о которой речь у нас впереди) констатировал: «Можно лишить себя жизни, отказываясь от принятия пищи, точно так же, как и посредством ножа или выстрела»[6]. Гоголь понимает, что совершил ужасную, трагическую ошибку, своеобразный бунт против Бога, попытавшись искусственно отодвинуть свой земной конец, и тут же, от отчаяния, совершает ещё большее преступление против Господа – пусть и в кроткой, пассивной форме, но кончает самоубийством…
Разумеется, трудно и даже невозможно иному читателю согласиться с данным утвердительным предположением. Потому что самоубийство как феномен действительности для нас, постсоветских людей – terra incognita[2]. Поразительно, но факт: в советских справочных изданиях, даже в таких солидных, как «Большая советская энциклопедия» и «Словарь иностранных слов», слово-понятие «суицид» отсутствовало. Перефразировав отца всех народов, можно сказать: нет слова – нет проблемы. Конечно, если начать разбираться всерьёз в этой чуждой догматам «Морального кодекса строителя коммунизма» теме, то, к примеру, придётся признать-согласиться, что Матросов и Гастелло жизни свои кончили самоубийством (что не умаляет их подвигов), а то и вовсе пришлось бы вести-составлять ежегодную статистику самоубийств в стране цветущего и беспроблемного социализма.
Совершенно неразрешимая загадка для любого homo sapiens’а[3] – самоубийство другого человека. Ещё неразрешимее она выглядит, когда её замалчивают. Лишь в 1989 году Госкомстат СССР впервые за 50 (!) лет опубликовал в своём сборнике статистику самоубийств: оказалось – было что скрывать. В 1975-м, например, случилось-произошло в нашей стране 66 тысяч самоубийств, в 1984-м – 81 тысяча. Это значит 30 человек из каждых ста тысяч счастливых советских людей строить дальше светлое будущее не пожелали. В то время, как во Франции самоубийц в том же 1984 году было – 22 человека на сто тысяч, в ФРГ – 21, в США – 12, в Великобритании и вовсе – 9. А во всём мире ежегодно более полумиллиона человек лишают себя жизни, число же покушавшихся на самоубийство, разумеется, в 5-10 раз больше[7].
Сначала, с непривычки, цифры только ошеломляют, а затем заставляют и задуматься. Ну вот, например, возьмём такие более точные данные: в 1975 году на сто тысяч жителей СССР было совершено 25,8 самоубийств, в 1980 – 26,9, в 1986 – 18,9, в 1989 – 25,7… Каково красноречие статистики! Сколько людей в перестроечном 1986-м вдруг обрели надежды, захотели жить, и сколько уже вскоре, в 1989-м, разочаровались-отчаялись, потеряли все и всяческие надежды.
Или взять «национально-географический» ряд цифр: в 1991 году в России покончили жизнь самоубийством 27 человек на сто тысяч жителей, в Белоруссии – 21,5, на Украине – 21,1, а вот в Азербайджане всего – 1,6[8]. Колоссальная разница!
И – таинственная, непонятная разница. Особенно для тех, кто не был знаком с уже упоминаемым капитальным трудом Э. Дюркгейма «Самоубийство». А читали-знали его разве что наши прадеды: «социологический этюд» Эмиля Дюркгейма (1858—1917) вышел во Франции в 1897 году, в России он был переведён и издан в 1912-м и вплоть до 1994 года не переиздавался. Конечно, социология – наука скучноватая, стиль «классика западной социологии», как представлен Дюркгейм в аннотации, мог бы быть и менее тяжеловесным (впрочем, может быть, здесь вина переводчика), подробностей-повторов в книге могло бы быть и поменьше, но надо отдать должное автору: он действительно сумел досконально проанализировать феномен самоубийства с самых различных сторон – социальной, морально-психологической, религиозной, этнической и др.
В нашу задачу не входит подробный разбор-анализ трактата Дюркгейма, но давайте хотя бы пунктиром обозначим ход его рассуждений и выводов, которые так или иначе необходимы для наших размышлений о суициде вообще и самоубийстве в жизни и творчестве Достоевского в частности.
Французский социолог уже на первых страницах формулирует и чётко оговаривает рамки самого понятия-предмета исследования: «…самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах. Покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведённое до конца»[9]. В недавно вышедшем и тоже капитальном исследовании Г. Чхартишвили «Писатель и самоубийство» приводится формулировка современного суицидолога Мориса Фарбера: «Самоубийство – это сознательное, намеренное и быстрое лишение себя жизни»[10]. Как видим, Фарберу удалось то же самое сформулировать намного лаконичнее, но для нашего исследования важно именно то, что Дюркгейм был практически современником Достоевского, исследовал ту эпоху, оперировал понятиями XIX века.
Итак, Дюркгейм утверждает, что акт суицида присущ только homo sapiens’у, и все истории-легенды о лебедях, бросающихся, сложив крылья, камнем вниз после смерти своих подруг, и о собаках, отказывающихся принимать пищу после смерти своих хозяев, – не более чем фантазии людей, наделяющих животных человеческими чувствами.
Далее автор пишет и подтверждает цифровыми выкладками, что «каждое общество в известный исторический момент имеет определённую склонность к самоубийству»[11]. Именно в этом месте книги автор, будь он нашим современником, мог бы привести в качестве яркого примера «зигзаг» российско-перестроечных данных с красноречивым перепадом числа самоубийств в 1980—1989 годах.
Каждый, как известно, умирает в одиночку. И каждый самоубийца свой конец, казалось бы, тоже выбирает сам, и на его отчаянное решение оказывают влияние вроде бы сугубо индивидуальные особенности натуры – умственное развитие, состояние нервной системы, обстоятельства личной жизни и т. д. Но на самом деле акт суицида незримыми нитями связан и со множеством, так сказать, косвенно внешних причин – национальностью, местом жительства, вероисповеданием, политическими пристрастиями, социальным положением… Больше того, на статистику самоубийств влияют климат, время года и даже время суток. Ну, кто бы мог подумать, что подавляющее большинство отчаявшихся людей (четверо из пяти!) сводят счёты с жизнью не глухой и мрачной ночью, а именно днём, когда эта самая жизнь вокруг кипит, бурлит и пенится. А разве неудивительно, что «религия, наименее склонная к самоубийству, а именно иудейство, в то же самое время оказывается единственной не запрещающей его формально, и именно здесь мысль о бессмертии играет наименьшую роль…»[12] Более того, в Библии, книге, которую Достоевский читал и перечитывал постоянно, в Ветхом Завете, действительно не содержится никаких запретов на лишение себя жизни. Самоубийство в Библии подаётся как подвиг, естественный и единственный выход из тупиковой ситуации.
Вот, к примеру, царь-полководец Саул потерпел поражение от филистимлян. Израильтяне бегут. Враги их нагоняют и поражают. Убиты уже три сына Саула, и сам он изранен стрелами. «И сказал Саул оруженосцу своему: обнажи твой меч, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, и не убили меня, и не издевались надо мною. Но оруженосец не хотел; ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним.»[13] Саул понимает-осознаёт – смерть близка и неизбежна. Казалось бы, какая разница: собственная рука и собственным мечом его поразит, рука верного оруженосца или рука вражеская? Нет, только самоубийство – наилучший выход из ситуации. Больше того, не сразу понятно: а почему, собственно, так уж «очень боялся» верный оруженосец помочь господину достойно умереть? А разгадка проста: чуть дальше, в самом начале 2-й Книги Царств, эпизод смерти Саула рассказывается-подаётся уже несколько по-иному. К Давиду приходит человек из стана Саулова, амаликитянин, и повествует о том, как увидел во время сражения раненого Саула, который «пал на своё копьё (сам или не сам – не вполне понятно), а враги уже настигали его. И Саул попросил этого воина: «Подойди ко мне и убей меня; ибо тоска смертная объяла меня, душа моя всё ещё во мне». Воин исполняет просьбу Саула. И вот тут Давид, отплакав после данного известия и разодрав на себе одежды, вдруг вопрошает грозно амаликитянина: «Как не побоялся ты поднять руку, чтоб убить помазанника Господня?» И не успевает бедный гонец что-либо ответить, как-то оправдаться, как Давид приказывает убить его, что немедленно и исполняется слугой[14].
В библейских сказаниях, в Ветхом Завете, описаны ещё несколько случаев самоубийств и без всякого порицания. Вот некий Ахитофел, советник-слуга одновременно и царя Давида и сына его Авессалома (так сказать, слуга двух господ), во время их кровавой междоусобицы запутался в своих кознях и решил, в конце концов, самоустраниться. А сообщается об этом мимоходом, без всяких комментариев: «…и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего»[15]. Обычное дело: скончался человек (неважно как) и похоронен достойно по обычаям своего народа. А, например, когда покончил с собой (поджёг дворец и сгорел вместе с ним) Замврий, самозванец, убивший царя израильского Илу и воцарившийся всего на семь дней на троне, то порицание в Библии по его адресу содержится, но не за самоубийство, а за то, что при жизни «согрешил, делая неугодное пред очами Господними»[16].
Дюркгейм свои исследования о взаимосвязи религии и самоубийства ограничивает тремя основными европейскими конфессиями – католицизмом, протестантизмом, иудаизмом и совершенно не касается православия. Для нас же важно именно отношение этой религии к самоубийству, ибо Достоевский был до мозга костей православным верующим, несмотря на все свои сомнения и вопросы, и Новый Завет он не просто читал и перечитывал, он сверял, можно сказать, каждый свой важный шаг с Евангелием до последней буквально минуты жизни. И важно подчеркнуть-отметить, что православие однозначно осуждало и осуждает самоубийство, жестоко карает посягнувших на свою жизнь, отказывая им в христианском обряде погребения и предрекая им вечные адские муки, – по крайней мере, ещё в XIX веке это было именно так.
Принято считать, что самоубийца в Новом Завете всего один – Иуда Искариот. И уж, в отличие от ветхозаветных собратьев по способу смерти, – совсем не герой. Предатель, совершивший самое подлое и немыслимо грязное предательство – предал Учителя, Иисуса Христа. Имя Иуды стало синонимом слов «предатель», «изменник», и благодаря его мерзкому деянию родилось-появилось новое ругательное слово-понятие – «христопродавец», а тридцать сребреников превратились как бы в вещественное, денежное мерило предательства. Между прочим, сумма относительно ничтожная: столько в среднем зарабатывал подённый работник того времени за четыре месяца.
О самоубийстве Иуды определённо сказано лишь в Евангелии от Матфея: «…пошёл и удавился»[17]. Остальные авторы канонических Евангелий о конце предателя умалчивают, только у Луки Иисус предрекает ещё загодя: «…но горе тому человеку, которым Он предаётся»[18]. А уж где и как похоронен и похоронен ли вообще труп Иуды Искариота – в Новом Завете вообще не упоминается.
Впоследствии стараниями толкователей, интерпретаторов и комментаторов Евангелия история самоубийства апостола-предателя обрастает подробностями. К примеру, в «Священной истории в простых рассказах для чтения в школе и дома», составленной протоиереем Александром Соколовым в прошлом веке, живописуется так: «Иуда бросил им (Первосвященникам и старейшинам, которые наняли его в качестве предателя. – Н. Н.) сребреники, пошёл за город, нашёл там высокое дерево, выбрал сучок, который покрепче, взял обрывок какой-то старой верёвки, привязал её к суку, сделал петлю, просунул в петлю голову и повесился»[19].
Но пора высказать и весьма, может быть, кощунственную мысль, что Иуда в Новом Завете – самоубийца не единственный. По существу, Иисус Христос, добровольно взойдя на крест ради спасения человечества, совершил самое настоящее альтруистическое самоубийство. И ранние христиане, вслед за Ним, сотнями так же добровольно принимали мученическую смерть от рук варваров или убивали себя сами, за что впоследствии были причислены официальной церковью к лику святых. Больше того, если верно, что жизнь и смерть каждого человека зависит только от воли Господа Бога (ни единый волос не упадёт с головы!), тогда, естественно, и всякий конец земного существования homo sapiens’а – в том числе и самоубийственный, – так сказать, санкционирован Им…
Подобные мысли-предположения могут вызвать негодование у иных верующих, но, оказывается, ещё в XVII веке английский поэт, философ и священнослужитель Джон Донн в трактате «Биатанатос» пытался доказать, что Иисус Христос покончил с собой. А чуть позже, в 1777 году, вышел труд другого англичанина-вольнодумца Дэвида Юма «О самоубийстве», где был выдвинут следующий тезис: «…когда я бросаюсь на собственный меч, я так же получаю смерть от руки Божества, как и тогда, когда причиной её были бы лев, пропасть или лихорадка»[20].
Таким образом, ещё раз подтвердилась известная мудрость, что всё на свете уже сказано, и наша задача – повторить уже известное своими словами.
Впрочем, мы уже довольно сильно отвлеклись от книги Дюркгейма, а в ней содержится ещё немало интересных для нас суждений и выводов. И самый, может быть, капитальный из них, что существуют три рода самоубийства – эгоистическое, альтруистическое и аномичное. Эгоистическое самоубийство – понятно: человек совершенно потерял смысл жизни, утратил все связи с другими людьми. Альтруистическое тоже определено чётко: для индивида смысл жизни заключён вне её самой. А вот с аномичным самоубийством вопрос довольно сложный. Это понятие (от франц. anomie – отсутствие закона, организации) ввёл в научный обиход сам Дюркгейм. И сам же он признаёт, что между аномичным и эгоистическим видами самоубийства существует очень тесное родство. Аномичное самоубийство «определяется беспорядочной, нерегулированной человеческой деятельностью и сопутствующими ей страданиями»[21]. И если эгоистическое самоубийство распространено в основном в среде интеллигенции, в сфере умственного туда, то аномичный вид суицида присущ торговцам, промышленникам и прочим, как бы мы сейчас сказали, бизнесменам. Чтобы сильно не вдаваться в специфические скучные материи, поясним попросту, что аномичным можно считать акт самоубийства, когда, к примеру, человек вздумал из грязи выбиться в князи, но ничего у него не получилось, вот он и наложил на себя руки. Или: жил-жил богатым, да вдруг разорился – тоже аномично важная причина для лишения себя жизни. Естественно, что в периоды экономических потрясений-кризисов количество аномичных самоубийств резко возрастает.
Правда, Дюркгейм кроме понятия «экономическая аномия» вводит ещё и термины «аномия домашняя», «аномия семейная», то есть речь идёт о случаях, когда человека на самоубийство толкает семейная катастрофа – вдовство или развод. Тут, признаться, уж совершенно трудно согласиться с автором книги – очень это походит на такой вид эгоистического суицида, когда индивидуум кончает с собой после потери любимого человека, не желая страдать.
2
Увы, все мы смертны. Все мы – созревающие трупы. Memento mori![4]